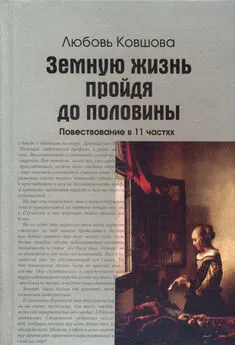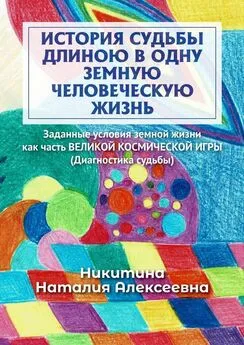Любовь Ковшова - Земную жизнь пройдя до половины
- Название:Земную жизнь пройдя до половины
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Любовь Ковшова - Земную жизнь пройдя до половины краткое содержание
Любовь Ковшова определила жанр своей книги как «повествование в 11 частях». Звучит скучновато, но, похоже, более точное определение подобрать трудно. Слишком явно выбивается эта книга из привычного ряда литературных колодок-выкроек. Мемуарно-автобиографическая канва, вроде бы обязанная взять на себя роль заместительницы сюжета, постоянно рвётся. Повествовательные пласты, подобно «возмущенным», пришедшим в движение пластам земной коры, смещаются. Повествователь — обладатель, по определению, ровно-раздумчивой, отстраненно-умудренной интонации — посылает к чёрту все ролевые ограничения и — просто живёт, представляете? Живёт жадно, молодо, бесстрашно, озарённо. Ошибаясь, собирая все острые углы, запинаясь, падая, не сдаваясь. Размышляя, сомневаясь, продираясь сквозь терновые заросли «бесспорных житейских истин».
Земную жизнь пройдя до половины - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Но с какой такой стати
Я на чьи-нибудь плечи
Положу этот груз,
Что сама должна смочь?..
Мысль была пронзительно проста и в то же время противоречила всему, с чем я выросла. Она не оставляла места моему естественному восприятию себя, как части целого, где целым были мама и отец, школьный класс, деревня, страна, в конце концов.
Откуда только взялась эта мысль? Ясно, что ни отъезд деда Хейсина, ни его запертая дверь к ней не имели отношения. Они были поводом, не более. Картина мироздания повернулась во мне самой, и я не знала, что с этим делать.
Сзади скрипнула тормозами и прогудела легковушка, огибая, прокатила мимо, и шофер показал в окно громадный кулак. Оказалось, что я иду прямо посреди мостовой…
В общежитии было все так же: девчонки еще не приходили, Белка спала, гуляли, подвывая, сквозняки. Прихватив с вешалки спортивную Галкину сумку, я покидала в нее мыло, мочалку, полотенце, чистое бельишко и отправилась в душ, чтобы хоть чуть отогреться.
Обычно мы ходили в душ на бумкомбинат. Но сегодня не было сил тащиться в такую даль, и я свернула к котельной. Впрочем, железная дверь внизу котельного куба тоже оказалась запертой, и пришлось колотить в нее ногами, пока она противно завизжала и приоткрылась, отчего на улицу потекла какофония свистящих, шипящих, гудящих на все голоса звуков.
— Что надо? — сквозь шум спросила тощая фигура с завязанной тряпками головой, в черной, измызганной шинели.
— Можно в душ?
Фигура в двери мрачно смотрела на меня и молчала.
— Так можно в душ? — повторила я, стараясь понять, чего он молчит, этот то ли вохровец, то ли зэк, то ли то и другое вместе, как говорили о нем в бараках, но скорей всего просто истопник, как по работе, так и по внешности.
Он манежил меня минуту-другую, после чего мотнул головой и отодвинулся от двери.
Внутри было туманно, прыгали стрелки манометров, пахло машинным маслом и шумело так густо, что ничего не было слышно кроме гуда и сипения. Налево за котлами приткнулась выгородка из сосновых горбылей — самодельная душевая. Как на дно колодца светила в нее электрическая лампочка, раскачивала тень кривой шеи душа, дробилась в падающих струях. А может, все дробилось и качалось у меня перед глазами. Струи разбивались на маленькие радуги, пылили по сторонам водяной мелочью. Вода текла по голове, плечам, ребрам, по животу и ногам, ласково и обнимающе. И было чувство, что отпускает душу.
В конце концов, может, так и должно, чтоб человек противостоял всему тяжкому в жизни сам, не надеясь на других? И ничего страшного?
Но совсем отойти от сегодняшних душевных мытарств не получалось, все время что-то раздражало, как раздражает упорный взгляд в спину. Я повернулась, и действительно: сквозь щель в горбылях на меня уставился круглый блестящий глаз.
Ощущение было не из слабых, будто плеснули кипятком на голое тело. А что оно голое, ощутилось сразу и всей кожей. Я съежилась, сведя вперед плечи и стараясь руками прикрыть грудь и низ живота. Но это помогло, как мертвому припарки. Взгляд приклеивался к беззащитной наготе, был как сальный анекдот или площадная брань. Он унижал до отчаянья, и все во мне уже привычно восстало против. Я резко выпрямилась, отвела руки и ненавидяще уставилась в глаз, торчащий за щелью. Этого любитель подглядывать не вынес, глаз заморгал, мелко заслезился и исчез.
Почти не вытираясь, я кинулась одеваться. Белье застревало, не хотело налезать на мокрое. Но я одолела его и лётом вылетела из душевой, из котельной, грохнув напоследок железной дверью. Дверь неожиданно отскочила обратно, наподдала меня сзади и кинула не на тропку, по которой ходили в котельную, а на ледяную ребячью горку. Я не успела опомниться, как стремительно скатилась по льду вниз, в снежную яму, какой кончалась горка. И, барахтаясь, как кутенок, в снежной мешанине, почему-то ясно вспомнила, что рассказывал нам об этом зэке-вохровце Борька Гагарин.
Борька, как всегда, лицедействовал, изображал солдатика из вохры (то бишь вооруженной охраны) туповатой деревенщиной, этаким дурошлепом при винтовке, сторожащим зэков на Беломорканале. И так он их там сторожил, что они у него чего-то не то взорвали и повзрывались сами. За что и солдатика и его начальство признали «врагами народа» и отправили на место подорвавшихся зэков. К 34-му году канал построили, бывшему вохровцу что-то за что-то зачли и выпустили на свободу. Но падения с высоты, когда имеешь право кричать: «Стой! Стреляю!» — и по усмотрению стрелять, к положению, когда «Стой!» и «Стреляю!» кричат тебе, обернулось для него сдвигом в психике — манией величия, при которой он всю жизнь представлял себя стрелком охраны. И Борька показывал, как, вытянув шею, полусумасшедший истопник со служебным рвением глядит в душ, чтоб не пропустить того, кто подложит взрывчатку.
Тогда, в Борькином изложении, это было очень смешно, а теперь выходило еще смешнее, совсем как в анекдоте:
«— Василь Иваныч, красный командир, что ж ты — бабы голой не видел?!
— Погоди, Петька. Я смотрю, чьей мочалкой она моется».
И, выбираясь из ямы, я просто падала от хохота. Над чем я так заливалась: над анекдотом, несчастным истопником или над собой? — непонятно. Но и на барачном крыльце, где вытряхивала снег из валенок, меня все еще сотрясали припадки смеха. Он был неостановим, и после него можно было только рыдать в голос, так же истерично и взахлёб.
Однако события в этот день нахлестывали одно на другое, и рыдать было некогда. Посреди нашей комнаты не сидел, а обвисал на стуле незабвенный Витюня. Вот кого бы я меньше всего хотела видеть.
— А-а, пришла, — расползаясь губами, просипел он.
Я тупо смотрела на него. Он был до изумления пьян, и неразрешимым являлся вопрос — когда же успел?
— Валенки скидавай, — велел Витюня, — потому шта я за ними… — Он косовато повел мутными зрачками, так что они закатились куда-то под самый лоб.
Из-за шкафа толстым лицом усиленно закивала Ольга: мол, соглашайся, не спорь.
Я прошла и села на кровать. Противно и скучно стало мне от них обоих.
Чего-то я не понимала в этой жизни. В частности, давящую, безмозглую силу, что копилась в вынужденных обитателях приладожских бараков и растрачивалась на утверждение себя мордобоем, поножовщиной, запугиванием тех, кто слабей; на бешеное сопротивление любому труду: «От работы лошади дохнут!»; на водку, на воровство и унылый разврат. Но больше, чем ее, я не понимала и ненавидела жалкий страх перед ней. Даже не само существование страха выводило из себя, а покорное подчинение ему. Меня мутило от заискивающих слов, жестов, взглядов, от Ольгиной готовности ссужать последнему блатарю на водку, когда мы перед получкой не могли у нее выпросить на хлеб. И еще: сталкиваясь с этой дурной силой до 101-го километра, я всегда знала, что вокруг народ, не позволящий ей разгуляться. Здесь же народа не было, каждый спасался как мог, и она главенствовала.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: