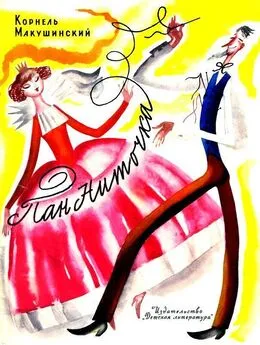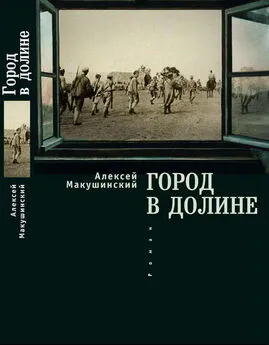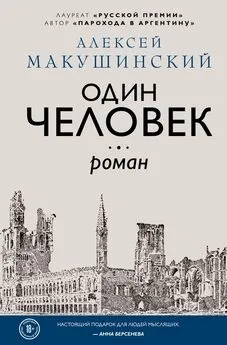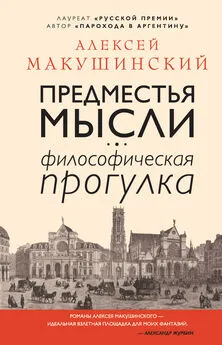Алексей Макушинский - У пирамиды
- Название:У пирамиды
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Новый хронограф
- Год:2011
- Город:Москва
- ISBN:978-5-94881-161-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Алексей Макушинский - У пирамиды краткое содержание
Эссе, статьи, фрагменты.
Издается в авторской редакции.
У пирамиды - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Потому еще раз: слова в немецком безусловному не противоположны, противоположны безусловному — вещи. Не отсюда ли (нет! не отсюда) — но не предрасполагает ли все это, говоря вообще, к «идеализму»? Wir suchen berall das Unbedingte und finden immer nur Dinge… Мы ищем повсюду das Unbedingte; в вещах (Dinge) мы не найдем его. И если не найдем в вещах, то не найдем ли — в словах? В словах и мыслях, сочетаниях слов и мыслительных построениях, в идеях и идеалах, в идеальных конструкциях? Наоборот: не подсказывает ли нам русский язык сомнение в такой возможности? Мы ищем безусловное; мы тоже ищем его повсюду; мы знаем, во всяком случае, что в словах его не найти. Скорее уж найдется оно в вещах, в исконно-вещественном, изначально-существенном, в той пропасти стихийно-элементарного, в которую Россия и бросается с поражающим непредвзятого наблюдателя постоянством.
Отвергнутый жених, или Основной миф русской литературы XIX века
Это история, которую все мы знаем: Он, молодой дворянин, часто «денди», часто «разочарованный» денди, как правило «мыслящий человек», мучимый «рефлексией» и отмеченный «гамлетовской» бледностью, появляется вдруг — всегда вдруг — в какой-нибудь деревенской глуши, в сельской идиллии. Он приезжает или прямо из Петербурга, или, реже, из Москвы, иногда из-за границы; во всяком случае, он «из столицы». И что же происходит в этих идиллических декорациях? Ну, конечно, он встречает ее, совсем молоденькую, более или менее «наивную» деревенскую девушку, редко крестьянку, как правило, барышню из соседней усадьбы, воплощающую в себе что-то сельски-невинное, «народное», «душевное», «русское». Как заканчивается эта история? История заканчивается плохо. Он ли в нее, она ли в него влюбляется, хочет или не хочет он на ней жениться, в конце концов ничего у них не выходит. Никакого хэппи энд'а — расставание, разочарованье, отчаянье.
Это не сюжет «Евгения Онегина», это что-то более общее, общая, если угодно, схема русского романа 19-го века — впрочем, впервые и с отчетливостью, с тех пор не превзойденной, в «Евгении Онегине» воплотившаяся (почему мы и считаем его как бы «первым» русским романом). Впервые воплотившись в «Онегине», она с тех пор не уставала искать и находить для себя все новые воплощения. Зачем ей это было нужно? А затем, скажу сразу, что таким образом литература разыгрывала в своих декорациях важнейший конфликт и основную оппозицию всего Петербургского периода русской истории. Не просто разыгрывала, но, разыгрывая, искала из него, конфликта, выход, ее, оппозиции, разрешение. Не нашла, скажу сразу и это.
Схема эта повторяется в русской литературе 19-го века с настойчивостью необыкновенной. Мы находим ее у Лермонтова и у Толстого, у Гончарова и у Тургенева — ограничимся этими именами — с неизбежными, конечно, вариациями, и тем не менее легко узнаваемую у них всех. Само по себе это еще не большое открытие. Мы ведь еще в школе учили, что есть «Онегин» и «Татьяна», «лишний человек» и «идеал русской женщины» — «типы», как говаривали в 19-ом веке, — что за Онегиным идет Печорин, а там, глядишь, Рудин и Наталья, Лаврецкий и Лиза в «Дворянском гнезде». Так что, может, и не стоит ворошить это старое дело? Может быть, и не стоит, а все-таки спросим себя — почему? Почему эта схема и этот конфликт повторяются с такой настойчивостью? Что это значит? О чем свидетельствует?
Как правило, эта общность в построении сюжета просто констатируется, но никак не объясняется — или же говорится о влиянии «Онегина» на дальнейшее развитие русского романа. Так Юрий Лотман (ограничимся этим одним примером) показывает, как онегинский сюжет в процессе дальнейшего развития русского романа расходится на две, впрочем — вновь и вновь пересекающиеся линии, из которых одна тематизирует конфликт между «онегинским» героем и героиней, восходящей к Татьяне (причем, как отмечает Лотман, «тургеневская версия романа онегинского типа настолько прочно войдет в русскую традицию, что станет определять восприятие и самого пушкинского текста»), [2] Лотман Ю. М. Роман в стихах Пушкина «Евгений Онегин». Спецкурс. Вводные лекции в изучение текста. Тарту 1975. Цит. по: Лотман Ю. М. Пушкин. СПБ 1995. Стр. 458.
другая же восходит к «мужскому» конфликту «Онегин — Ленский». При этом тот или иной автор может, конечно, и переходить с одной линии на другую. Все это вместе понимается как «пути усвоения онегинской традиции».
Отрицать эти пути и это усвоение я, конечно, не собираюсь; я полагаю лишь, что значение занимающей нас сюжетной схемы этим не исчерпывается и в достаточной степени не объясняется. Значение ее представляется мне громадным. Будет ли слишком рискованным тезис (я уже намекнул на него), что эта схема (этот конфликт, этот сюжет… как угодно) представляет собой некий основной миф русской литературы девятнадцатого века ? Это рискованный тезис; пойдем на риск. Это основной миф столетия, миф, в котором выражает и оформляет себя существенная проблематика, важнейший конфликт эпохи.
Миф, следовательно — и к тому же основной? Конечно, попытка «все» свести к этой схеме была бы глупостью; поэтому и пытаться не будем. Есть достаточно других мотивов (конфликтов, сюжетных схем… как угодно) в русской литературе этого — и любого другого периода; общий знаменатель какой бы то ни было эпохи найти, по-видимому, вообще невозможно. Поскольку, однако, эта схема проходит через все столетие и поскольку (что, наверное, еще важнее) в ней сказывается и «символически» оформляет себя тот же конфликт, который также и в других сферах и на других уровнях (на уровне философской рефлексии) осознается самой эпохой, как и последующими, в качестве основного конфликта этой эпохи, постольку она, т. е. схема, оказывается для 19-го века, пожалуй, все же чем-то вроде схемы основополагающей.
Можно попытаться перенести на эту схему понятие «основного сюжета» ( master plot), как оно было разработано Катериной Кларк в ее известной книге о «социалистическом реализме», [3] Katerina Clark. The Soviet Novel. History as Ritual. Chicago & London 1981. Излишне говорить, что по своему содержанию выделенный Катериной Кларк master plot советской литературы не имеет с нашим «мифом 19-го века» ничего общего.
при том что в случае советской литературы сознательное следование предписанному канону играет, конечно, несравнимо большую роль. Что и в русской литературе 19-го века этот момент играет — не столь, конечно, значительную — но все же достаточно большую роль, мы только что видели («пути усвоения»); с другой стороны, и в литературе соцреализма, как бы строго ни были канонизированы определенные сюжетные схемы, характеры и их взаимоотношения, не все, конечно, может быть сведено к «усвоению» канона и подражанию образцам. И там, и здесь, как бы то ни было, мы видим некую «идеальную» сюжетную схему (что и есть, собственно, master plot), схему, которая «в чистом виде» не встречается, конечно, ни в одном тексте, которая может быть, тем не менее, из этих конкретных текстов выделена и описана.
Интервал:
Закладка:
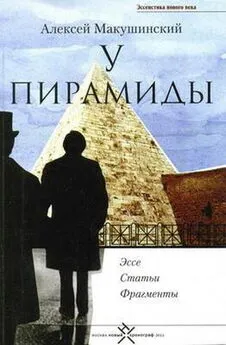
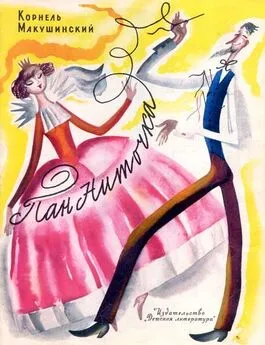
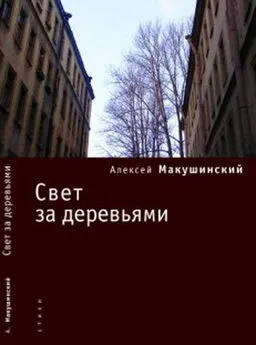
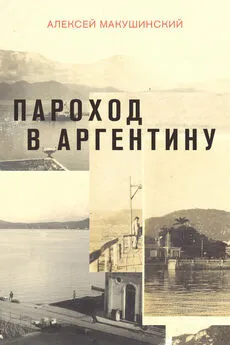
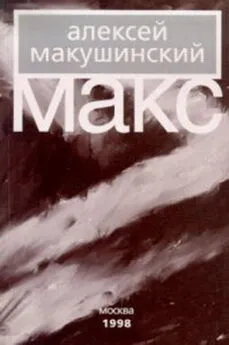
![Алексей Макушинский - Предместья мысли [Философическая прогулка] [litres]](/books/1068510/aleksej-makushinskij-predmestya-mysli-filosofichesk.webp)