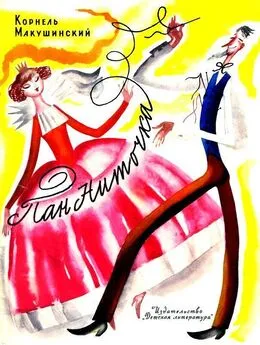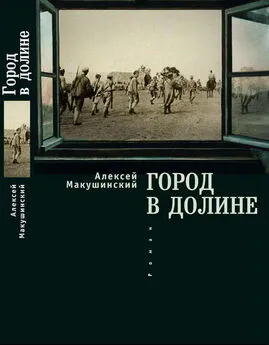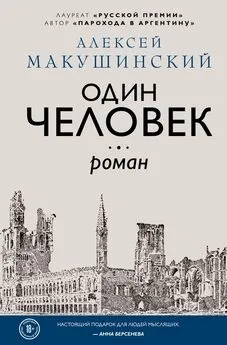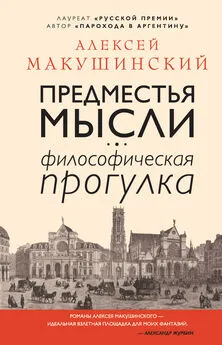Алексей Макушинский - У пирамиды
- Название:У пирамиды
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Новый хронограф
- Год:2011
- Город:Москва
- ISBN:978-5-94881-161-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Алексей Макушинский - У пирамиды краткое содержание
Эссе, статьи, фрагменты.
Издается в авторской редакции.
У пирамиды - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Таким образом, чтобы наш master plot начался, наш миф сложился, должны произойти две вещи. Черкешенка и цыганка должна стать русской, «прекрасная дикарка» превратиться в провинциальную русскую барышню — превращение, кстати, тематизируемое Пушкиным в 8-ой главе «Онегина», в тех начальных строфах, где он описывает «превращения» своей «музы». Для нас здесь особенно интересен, пожалуй, мотив внезапности и как бы неожиданности, с которой «дикарка» превращается в «барышню», т. е. миф начинается. В самом деле, сначала муза скачет «Ленорой, при луне» «по скалам Кавказа», затем «в глуши Молдавии печальной» посещает «смиренные шатры / племен бродящих» и т. д., затем — «вдруг»:
Вдруг изменилось все кругом:
И вот она в саду моем
Явилась барышней уездной,
С печальной думою в очах,
С французской книжкою в руках.
Французская книжка в руках не мешает ей — или, что, в общем, тоже, Татьяне, плохо знавшей и с трудом изъяснявшейся по-русски, — служить воплощением и символом «русскости»; все мы знаем с детсадовских дней, что она была «русская душою», «верила преданьям / простонародной старины» — и какие еще цитаты обычно приводят в доказательство ее заслуг в смысле «народного духа». Так или иначе, здесь выполняется и второе условие, необходимое для образования мифа — повышение «социального статуса». Крестьянка должна превратиться в барышню, «бедная Лиза» в «бедную Таню».
Почему, собственно? Прежде всего потому, что свадьба — со «священной свадьбой» в глубинной и «мистической» перспективе — с крестьянской и значит, до 1861 года, как правило крепостной девушкой привела бы, во-первых, к слишком большим сложностям в построении сюжета, во-вторых представляла бы собой слишком значительное исключение из социальных правил. «Простое» происхождение героини уж чересчур препятствовало бы той «идеализации», без которой наш миф вообще обойтись не может; занимающие нас авторы были слишком хорошо знакомы с сельской действительностью и были слишком «реалистами», чтобы видеть в своих деревенских красотках (с которыми, как известно, нередко состояли в связи) идиллических пастушек; то, что было еще возможно для Карамзина, сделалось невозможным для его трезвых потомков. Так что речь хоть и идет о слиянии с народом, но символизировать этот «народ» поручено усадебной барышне, «графинюшке», воспитанной «в шелку и в бархате», как сказано о Наташе Ростовой (и как, помните? Толстой удивлялся и умилялся, глядя на Наташу, танцующую русский танец — откуда-де в ней эти «приемы», этот «русский дух»? Да все оттуда же, из мифологии…).
С превращением «Лизы» в «Таню» отпадает, в общем, и мотив соблазнения — или, по крайней мере, отступает на второй план; речь идет теперь о более важных вещах; чувственность уступает дорогу метафизике.
Впрочем, слишком строгих различий проводить здесь не следует; чрезмерный педантизм был бы — как всегда — неуместен. Так, мотив «цивилизованный мужчина — дикая женщина» получает, уже и просто потому, что мы прочитываем его в контексте всей русской литературы с ее основным сюжетом и мифом, как бы некое дополнительное измерение; уже сама настойчивость, с которой он повторяется, указывает в сторону основного мифа. Лермонтовский «Демон», к примеру, хотя и находится еще на романтически-экзотической линии, может, тем не менее, быть причислен к важнейшим текстам занимающего нас мифа — не в последнюю очередь из-за того, что он сам переводит сюжет в мифологический план и раскрывает его, если угодно, метафизические глубины. К тому же границы здесь вообще размыты и переходы совершаются постепенно. Так — здесь мы делаем огромный скачок: от начала к концу всей этой истории — Толстовское «Воскресение» можно, с одной стороны, рассматривать как возврат к старинной «истории соблазнения» (злодей-барин — девушка из народа); с другой стороны, если мы учтем дальнейшее развитие действия, вину и раскаяние Нехлюдова, его в высшей степени своеобразное повторное «ухаживание» за Катюшей Масловой и т. д., метаморфозы, претерпеваемые ее образом в течение действия, наконец, то обстоятельство, что роман появляется в самом конце 19-го столетия, после всех прочих романов с их основным сюжетом, и с момента своего появления до наших дней прочитывается в том же контексте, становится ясно, что и это позднее произведение лежит на основной линии мифа — и даже больше того: завершает оную. То, что оно было опубликовано в 1899 году, вполне символично; в самом деле, это «последний» роман 19-го века, в том же смысле, в каком «Евгений Онегин» — «первый». Конец мифа и завершение истории (этой истории) символически осуществлены здесь с не оставляющей сомнений отчетливостью: Катюша Маслова, эта последняя в ряду воплощающих «душу России» героинь уходит, в конце концов, от своего кающегося, страдающего, рефлексирующего Нехлюдова — и причем уходит от него к революционеру. Теперь все — «кающийся интеллигент» остается не у дел; «судьба России» решена.
Это «решение конфликта» намечалось уже тремя десятилетиями раньше, а именно у Гончарова в «Обрыве». Я имею в виду, разумеется, короткую связь Веры с «нигилистом» Марком Волоховым — ее, так сказать, падение (с «обрыва» в «пропасть»). Характерно, что «спасает» ее вовсе не «лишний человек» Райский, а не слишком правдоподобный землевладелец и лесопромышленник Тушин, «капиталист» и «деятельный человек». (Этот брак с Тушиным можно рассматривать как довольно редкую для русской литературы альтернативную утопию, в которую, впрочем, сам Гончаров верит очень мало). Как бы то ни было, там, в «Обрыве», ужаснувшемуся автору еще удалось избежать этого революционного решения — теперь, в «Воскресении», оно делается неизбежным. И на этом все кончается, и русская литература Петербургского периода, и сам этот Петербургский период… После этого может быть лишь эпилог, каковой и имеет место — у Блока.
До эпилога мы еще не добрались; посмотрим сначала, что еще происходит с нашим мифом у яснополянского мудреца и бунтаря. Толстой, при всем его бунтарстве, не только завершает наш миф, но и он же, как никто другой в русской литературе, упорно настаивает на возможности осуществления утопии, примирения противоположностей, вновь и вновь пытается сделать по крайней мере набросок этой осуществленной утопии — попытки, обреченные, конечно, на неудачу. Это прежде всего относится к «Войне и миру», где уже известная нам констелляция легко различима: с одной стороны, князь Андрей, петербургский, светский, рефлексирующий человек, с другой — Наташа Ростова, очередное воплощение деревни, души, России. Опять-таки решающая встреча происходит в деревне, в Отрадном, куда он приезжает — чтобы подслушать ее ночной разговор с Соней и т. д. И опять-таки она лишь по видимости виновата в том, что их отношения и помолвка расстраиваются; на самом деле виноват, конечно, он, подчинившийся своему тирану-отцу и заставивший ее целый год ждать свадьбы. То, в чем было отказано князю Андрею, в конце концов достается, как мы все знаем, Пьеру. Пьер, однако, с самого начала не является представителем петербургско-интеллектуального и в этом смысле мужского начала; скорее он выступает в этом отношении как антагонист своего друга Болконского. Сей последний обладает сильной волей, аналитическим умом и практически-хозяйственными способностями — в прямую противоположность слабохарактерному и непрактичному Пьеру с его склонностью к меланхолии и мечтательному философствованию. Не случайно, конечно, и то, что хотя мы впервые встречаемся с Пьером в Петербурге, сам он скорее москвич (оппозиция «Петербург — Москва» в данном, и во многих других случаях как бы воспроизводит основную оппозицию «Петербург — Россия»); и в течение дальнейшего развития романа мы видим его чаще в старой, чем в новой столице. Тем более приближается он к другому («женскому») полюсу основной оппозиции после своих приключений и переживаний во время Отечественной войны, в особенности, конечно, после встречи с Платоном Каратаевым и, соответственно, обращения к «народу». Тем не менее, эпилог романа задуман как своего рода апофеоз, как осуществление (семейной) идиллии — осуществление, хотя и не совсем «правильное» с точки зрения нашего мифа («правильным» был бы брак с настоящим представителем мужского и петербургского начала, т. е. именно с князем Андреем), но все же как осуществление оной, как сбывшаяся утопия. Однако картины (семейного) счастья удаются вообще очень редко; после хэппи энд'а описывать нечего; поэзия помолвки сменяется прозой брака. Так и здесь — превратившаяся в «самку» Наташа с этими ее, по незабываемому выражению Бунина, «засранными детскими пеленками в руках» не случайно, конечно, разочаровывала поколения русских читателей; читатели были правы; предлагаемый здесь вариант «избавления» никого, конечно, не убеждает.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
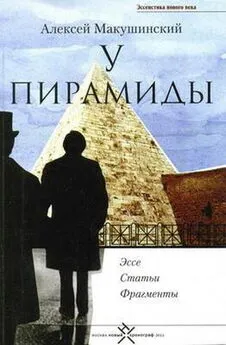
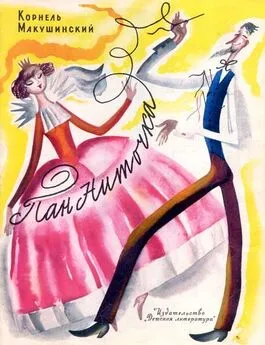
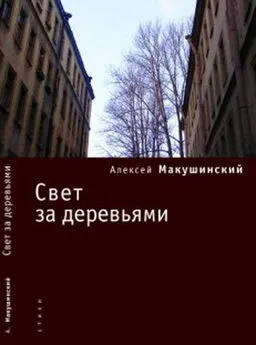
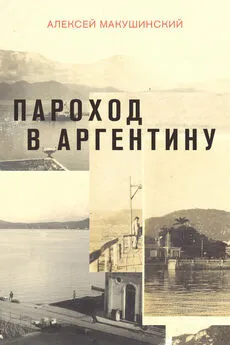
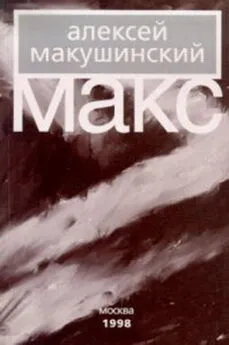
![Алексей Макушинский - Предместья мысли [Философическая прогулка] [litres]](/books/1068510/aleksej-makushinskij-predmestya-mysli-filosofichesk.webp)