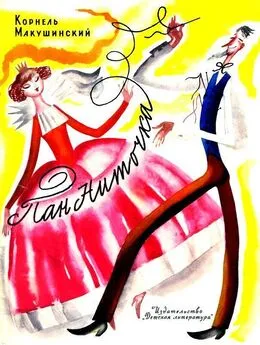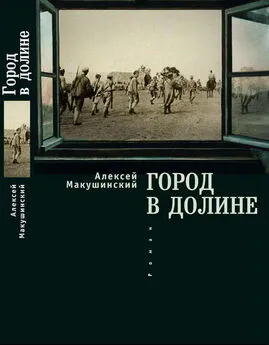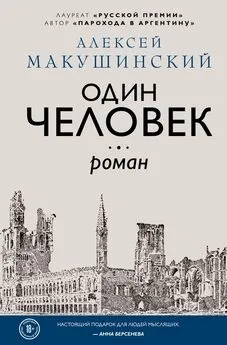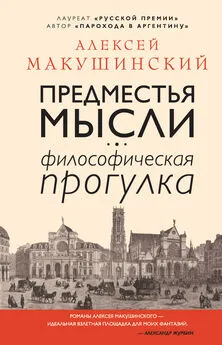Алексей Макушинский - У пирамиды
- Название:У пирамиды
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Новый хронограф
- Год:2011
- Город:Москва
- ISBN:978-5-94881-161-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Алексей Макушинский - У пирамиды краткое содержание
Эссе, статьи, фрагменты.
Издается в авторской редакции.
У пирамиды - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Я не утверждаю, конечно, что все это тоже относится к master plot; я полагаю, однако, что это родственные феномены, проясняющие друг друга.
То же относится и к другой перспективе, открываемой «Бесами». Мы попадаем при обращении к ним — и опять вдруг — в русский «софиологический» дискурс, или, если угодно, в русские «софиологические мечтания». В самом деле, как Сергей Булгаков, так и Лев Зандер связывают образ «Хромоножки» с представлениями о «Софии-Премудрости», о «Вечной Женственности», идущими в первую очередь от Владимира Соловьева, разработанными затем Павлом Флоренским и самим Сергеем Булгаковым, и получившими свое «поэтическое воплощение» прежде всего у Блока. Конечно, и в этом случае знак равенства неуместен; простое отождествление героини «основного сюжета» с «Софией Премудростью Божьей» было бы слишком поспешным. Это как бы тот более широкий горизонт, в котором миф осуществляет себя.
В заключение я хочу высказать мысль кощунственную. Я полагаю, что русская литература, в общем и целом, заблуждалась. Проблема заключалась не в нем, но скорее в ней, не в герое, но в героине мифа. Этот образец чистоты и благородства, этот идеал, это воплощение всех моральных совершенств, эта персонификация «народной души» и символ вечной — «святой», sit venia verba — России, — все это было, конечно, изобретением пишущих, кающихся, легковерных мужчин. Вовсе не он, но именно она оказалась, в конечном итоге, другой. Именно в этой перспективе Блок предстает, в самом деле, чем-то вроде эпилога к русскому 19-му веку. Блок был, наверное, первым, если не единственным, русским автором, показавшим со всей отчетливостью эту, с течением времени делавшуюся все более очевидной, метаморфозу основного русского женского образа. Основополагающее для всего его творчества отношение (мужского) «лирического я» к его «даме» (в ее различных вариантах) может быть cum grano salis охарактеризовано как (самый) последний «роман» в традиции нашего master plot. [11] Ср.: «Мечтательная Татьяна Пушкина открыла эпоху, Прекрасная Дама Блока ее завершила». Андрей Синявский. Что такое социалистический реализм. Цит. по: Абрам Терц / Андрей Синявский. Путешествие на Черную речку. Москва, 2002. Стр. 122.
Хотя в «Стихах о России» и утверждается, что «она» не «пропадет» и не «сгинет», какому бы «чародею» ни отдала она свою «разбойную красу», тем не менее, если взять все развитие этого женского образа (этой «героини») в его совокупности, весь путь от «Прекрасной Дамы» к «Снежной Маске», «Незнакомке» и далее, то постепенное помрачение, более того: демонизация, этой «Вечной Женственности» и «Софии Премудрости» сделается несомненной. Уже в самом начале пути, впрочем, в юношеских «Стихах о Прекрасной Даме» намечена эта возможность подмены: «Но страшно мне: изменишь облик Ты». Именно это с ней и случилось, и прежде всего, конечно, в результате ее, уже упомянутого, решения отдать свою «разбойную красу» революционной, не знающей сомнений и не мучимой раскаянием, мужской силе и воле. С этим «измененным обликом» мы и пытаемся, уже почти сто лет, без больших успехов, найти общий язык.
Человеческая доброта и бесчеловечное «добро»
Василий Гроссман и Лев Шестов [12] Статья, предлагаемая вниманию читателя, была первоначально написана по-немецки — в связи с конференцией, посвященной столетию со дня рождения Василия Гроссмана, проходившей в декабре 2005 года в Католическом университете Эйхштетт-Ингольштадт. Переводя ее на русский, я старался по возможности убрать из нее все то, что для немецкого читателя требует пояснения, для русского же очевидно и так. В полной мере мне этого сделать, конечно, не удалось — слишком многие связи между отдельными мыслями оказались бы разорванными.
Между этими авторами — миры. Один из самых блистательных представителей русского религиозно-философского ренессанса, экзистенциалист avant la lettre, великолепный стилист, иронист, стремящийся дойти до «последних выводов» — и советский писатель, несмотря на все свои идеологические расхождения с системой так и не вышедший, да и не пытавшийся выйти, за эстетические рамки, предписываемые «соцреалистическим каноном». Это относится и к «Жизни и судьбе», его главному труду. Критическое осмысление тоталитарных идеологий и практик 20-го века осуществляется в нем привычными соцреалистическими методами. Идеологические отличия от ранних романов того же автора — от «Степана Кольчугина» (1937–1940) или «За правое дело» (1952) — могут быть сколь угодно велики; эстетика остается прежней. Эта эстетика соцреализма, если отвлечься от ее идеологической, или пропагандистской, составляющей (пресловутой задачи «идейной переделки и воспитания трудящихся в духе социализма», зафиксированной уже в «Уставе» Союза советских писателей, принятом на их «Первом съезде» в 1934 году) — составляющей, которая у Гроссмана, конечно, отсутствует (подобно тому, как она вообще отсутствует у многих не вполне лояльных советских писателей послесталинской эпохи) — если отвлечься, следовательно, от идеологии, то можно сказать, что эстетика соцреализма была в первую очередь эстетикой эпигонской, попыткой воскресить — очень поверхностно понятый — реализм 19-го века в качестве единственно «истинного» искусства, что, разумеется, сопровождалось, и не могло не сопровождаться, радикальным отрицанием и постоянными проклятиями по адресу расплывчатого «модернизма» (время от времени обзываемого «формализмом»), В конечном итоге соцреализм (в области литературы) стремился к созданию большого всеобъемлющего эпоса, каковой, в свою очередь, должен был обеспечить советского человека окончательным, каноническим воплощением исторического мифа — собственно, советской «священной истории», ею же была поначалу «история революции», затем, в сталинское время, как бы слившаяся с нею русская история вообще. Той же цели служили, кстати, и прочие Музы, историческая живопись и скульптура, кино и театр. Не удивительно поэтому, что из всех великих книг 19-го века на советских писателей особенное впечатление произвела «Война и мир», этот, как замечательно выразился Томас Манн, «национальный эпос в образе современного романа». [13] «National-Epos in moderner Romangestalt». Mann, Thomas. Reden und Aufsätze, 1 (=Gesammelte Werke in dreizehn Bänden, Bd. 9). Frankfurt am Main 1990. S. 625.
Сит grano salis можно было бы представить историю советской литературы как историю (неудавшихся) попыток создать «новую» или «вторую» «Войну и мир». В числе прочих, а может быть даже и сильнее, чем кто-либо, подпал под это обаяние толстовского «национального эпоса» и Василий Гроссман; не случайно уже «За правое дело» то и дело сравнивали с «Войной и миром»; тем более напрашивается на такое сравнение «Жизнь и судьба».
Интервал:
Закладка:
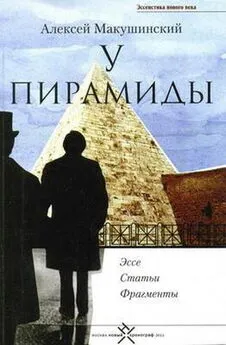
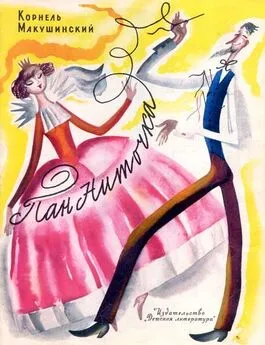
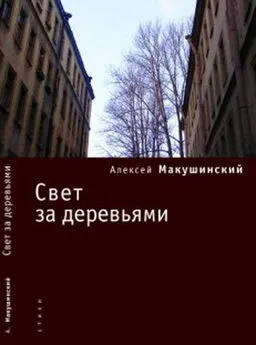
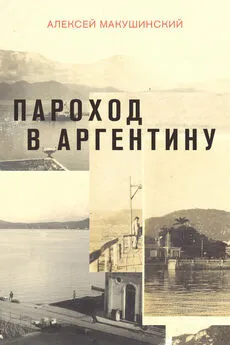
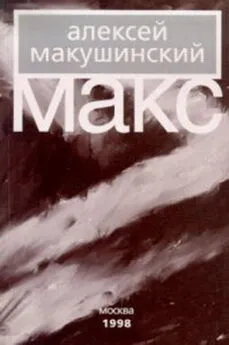
![Алексей Макушинский - Предместья мысли [Философическая прогулка] [litres]](/books/1068510/aleksej-makushinskij-predmestya-mysli-filosofichesk.webp)