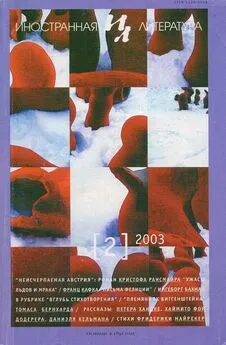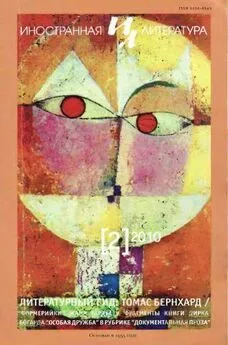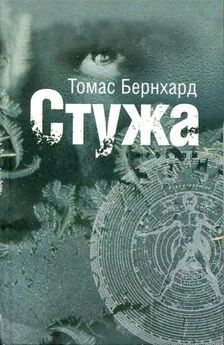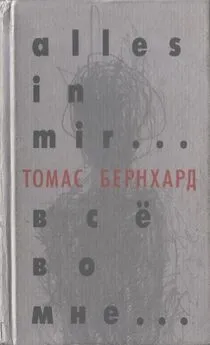Томас Бернхард - Племянник Витгенштейна
- Название:Племянник Витгенштейна
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Томас Бернхард - Племянник Витгенштейна краткое содержание
1967 год.В разных корпусах венскойбольницы лежат двое мужчин,прикованные к постели.Рассказчикпо имени ТомасБернхард, поражен недугомлегких, его друг Пауль, племянникзнаменитогофилософаЛюдвигаВитгенштейна, страдает отодного из своихпериодическихприступовбезумия.Поскольку ихнекогдаслучайнаядружбастановится крепче,эти дваэксцентричныхмужчиныначинают открыватьдруг в другевозможноепротивоядие от чувства безнадежностии смертности - духовную симметрию,выкованнуюих общейстрастью к музыке, странным чувствомюмора, отвращением кбуржуазнойВене, и великим страхомперед лицомсмерти.Частичномемуары, частично фантастика, "ПлемянникВитгенштейна" словномедитативный образборьбыхудожника,поддерживающей твердую точку опорыв мире, — потрясающий панегирик реальнойдружбы.
Племянник Витгенштейна - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
[15] Театр на Ринге — Венская государственная опера. Ринг, или Рингштрассе, — кольцевая улица, опоясывающая Старый город, центральную часть Вены.как ни один человек до него и ни один после. Его особенно боялись на премьерах. Своим воодушевлением — поскольку Пауль начинал проявлять его на пару секунд раньше, чем другие, — он заражал всех зрителей. И напротив, уже первые его свистки — потому что он этого хотел, потому что он именно на это и рассчитывал — означали провал даже самой грандиозной и дорогостоящей постановки. “Я могу обеспечить успех спектакля, если я этого хочу и если для этого имеются определенные основания, а такие основания имеются всегда, — говорил он, — и точно так же я могу обеспечить полный неуспех, если для этого имеются основания, а они имеются всегда: мне достаточно лишь первым крикнуть “браво” или первым засвистеть”. Жители Вены десятилетиями не замечали того, что своими оперными триумфами они в конечном счете были обязаны Паулю, и он же был виновником провалов в театре на Ринге — провалов, которые, ежели он того хотел, превосходили своей скандальностью все другие. Однако такие выступления Пауля “за” или “против” того или иного спектакля никак нельзя было назвать объективными, они обуславливались лишь его личными причудами, его неуравновешенностью, его безумием. Многие дирижеры из тех, кого он терпеть не мог, приезжая в Вену, попадались в эту ловушку: он их освистывал и поносил прямо-таки с пеной у рта. Только с Караяном,
[16] Герберт фон Караян (1908–1989) — крупнейший австрийский симфонический и оперный дирижер. В 1955 г. был назначен пожизненно руководителем Берлинского филармонического оркестра. Был дирижером Венской государственной оперы. Венского симфонического оркестра. Зальцбургских фестивалей, Лондонского филармонического оркестра.которого он ненавидел, у него получился облом. Гениальный Караян был слишком велик, чтобы выходки Пауля могли его хоть как-то задеть. За Караяном я наблюдал десятилетиями, изучал его и считаю самым значительным дирижером нашего столетия, наряду с Шурихтом, которого я любил, Караяном же я с детства восхищался — и должен отметить, на основании собственного опыта; я всегда ценил его по крайней мере столь же высоко, как все музыканты, с которыми Караян когда-либо работал. Пауль ненавидел Караяна, проявляя это всеми доступными ему способами, и называл, из ненависти, превратившейся чуть ли не в привычку, не иначе как шарлатаном; я же видел в этом дирижере, исходя из собственных, копившихся десятилетиями наблюдений, влиятельнейшего музыкального деятеля, и чем более возрастала слава Караяна, тем лучше он становился, чего мой друг — как, впрочем, и вся остальная музыкальная общественность — не желал замечать. Я с детства следил за развитием и совершенствованием мастерства гениального Караяна, присутствовал почти на всех генеральных репетициях концертов и опер, которые он проводил в Зальцбурге и Вене. Первым концертом, который я услышал в своей жизни, дирижировал Караян, первой оперой, которую я слушал, — тоже Караян. И в результате, не могу этого не отметить, я с самого начала получил мощный импульс для моего музыкального развития. Слава Караяна с самого начала предопределила неизбежность яростных споров между мною и Паулем, и действительно, пока Пауль был жив, мы с ним постоянно спорили по поводу Караяна. Однако ни я своими доводами не мог убедить Пауля в караяновской гениальности, ни Пауль своими доводами — меня в том, что Караяна следует считать шарлатаном. Для Пауля — и это нисколько не нарушало его философского мировидения — опера оставалась, вплоть до его смерти, так сказать, безусловной вершиной мира, тогда как для меня она была лишь некоей страстью, очень рано во мне проснувшейся, но ко времени нашего с Паулем знакомства уже в значительной мере оттесненной на задний план, я и сейчас люблю ее как прежде, но от непосредственных контактов с ней уже много лет могу воздерживаться. Долгие годы, пока у него еще были деньги и время, Пауль путешествовал по всему земному шару, перемещаясь от одного оперного театра к другому, чтобы в конечном итоге вновь и вновь превозносить Венский оперный театр как наилучший из всех. “Мет — это ничто. Ковент-Гарден
[17] Мет — Метрополитен-опера, ведущий и единственный в США постоянный оперный театр (Нью-Йорк); Ковент-Гарден — оперный театр в Лондоне, один из лучших оперных театров в Европе.— ничто. Ла Скала — ничто”. Все они были в его представлении “ничто” по сравнению с Венской оперой. “Но разумеется, — говорил он, — Венская опера тоже бывает по-настоящему хороша только раз в году”. Только раз в году — и тем не менее… Он мог себе это позволить — в ходе безумного трехгодичного путешествия посетить один за другим все так называемые оперные театры мирового класса. Тогда же он перезнакомился чуть ли не со всеми более или менее крупными, и великими, и действительно гениальными дирижерами, с певцами и певицами, которых они выпестовали и к которым благоволили. По сути, голова Пауля была оперной головой, а его жизнь, которая для него все в большей и большей мере, в последние же годы еще и с нарастающей скоростью, превращалась в кошмар, — оперой, великой, разумеется, оперой; и, соответственно, с трагической развязкой. В тот период, о котором идет речь, действие этой его оперы опять переместилось в “Штайнхоф” — в корпус “Людвиг”, один из самых запущенных во всем “Штайнхофе”, в чем мне вскоре предстояло убедиться. Господин барон, как все величали моего друга, тогда в очередной раз сменил белый фрак — который. насколько я знаю, он заказал у Книзе и в последние годы жизни (так сказать, за моей спиной) очень часто надевал по вечерам, преимущественно когда посещал так называемый “бар, Эдем’”, - на смирительную рубашку. Ужины в “Захере” или “Империале”, куда его время от времени все еще приглашали по-прежнему многочисленные состоятельные, а то и чрезвычайно богатые, аристократические и не аристократические друзья, — на жестяную миску и мраморный столик в корпусе “Людвиг”; элегантные английские носки и туфли от “Мальи”, или “Росселли”, или “Янко” — на предписанные в корпусе “Людвиг” грубошерстные белые гольфы и нелепые войлочные шлепанцы. И к тому времени он уже прошел курс лечения электрошоком, о чем потом, когда его отпустили из “Штайнхофа”, рассказывал мне с едкой иронией, не упуская ни одной жестокой, и подлой, и низкой, и бесчеловечной детали. В “Штайнхоф” Пауля обычно “сдавали” тогда, когда его близкие уже не чувствовали себя в безопасности рядом с ним: когда, например, он ни с того ни с сего начинал угрожать всем вокруг убийством и предрекал смерть от огнестрельной раны или удушения даже собственным братьям; отпускали же Пауля из лечебницы лишь после того, как врачи в своем самодовольном безумии полностью изничтожали его, истребляли в нем все желания и порывы — так что он едва мог поднять голову, не говоря уж о том, чтобы пытаться чего-то требовать или протестовать. И после выписки он, как правило, сразу отправлялся в окрестности Траунзе, где его семья еще и сегодня владеет многообразными разбросанными среди лесов, у разных замечательных озерных бухточек, и в маленьких долинах, и на холмах, и на вершинах гор виллами, и крестьянскими усадьбами, и так называемыми “охотничьими домиками”, в которых Витгенштейны стараются проводить короткое время отдыха, с трудом выкраиваемое в суете довольно неприятных дел, связанных с их богатством. Но в тот момент, о котором я рассказываю, резиденцией Пауля был павильон “Людвиг”. И я вдруг засомневался, разумно ли — с моей стороны, то есть из корпуса “Герман”, - устанавливать связь с корпусом “Людвиг”, не принесет ли это нам обоим скорее вред, чем пользу. Потому что кто знает, в каком состоянии на самом деле находится сейчас Пауль — возможно, в таком, которое окажется губительным для меня, и тогда лучше, чтобы я вообще не подавал о себе преждевременных вестей, чтобы я не устанавливал никакой связи между корпусом “Герман” и корпусом “Людвиг”. А с другой стороны, подумал я, мое появление в корпусе “Людвиг”, к тому же еще и неожиданное, может губительно повлиять на Пауля. Я действительно вдруг испугался нашей возможной встречи и подумал: пусть наша общая приятельница Ирина решит, стоит устанавливать контакт между корпусом “Герман” и корпусом “Людвиг” или нет. Но и от этой мысли я тотчас отказался, так как не хотел, чтобы у нашей приятельницы возникли какие-то затруднения, если она — как всегда любезно — согласится принять решение за нас. Пока что у меня все равно нет сил, чтобы добраться до корпуса “Людвиг”, подумал я — и вообще отказался от мысли посетить корпус “Людвиг”, ибо эта мысль внезапно показалась мне слишком абсурдной. В конце концов, легко допустить, что сам Пауль однажды, совершенно неожиданно, заявится сюда — это вполне возможно, подумал я, потому что наша не в меру болтливая приятельница сказала ему, что я нахожусь здесь, в корпусе “Герман”. И я на самом деле боялся такого поворота событий. А если он внезапно появится здесь, в корпусе “Герман” — в этом месте, как никакое другое содержащемся в строгости и действительно посвященном смерти, подумал я; появится в своей униформе психа: в шлепанцах психа, в рубашке психа, в куртке психа и в штанах психа… Я этого боялся. Я не знал, как его встретить, как принять, как с ним справиться. И еще я размышлял о том, что ему легче добраться до меня, чем мне — до него. Если он способен хоть как-то двигаться, то из нас двоих именно он объявится первым, придет сюда. Но такого рода визит, подумал я, при любых обстоятельствах может закончиться только катастрофой. Я отгонял от себя тревожное предчувствие и пытался переключить свои мысли на другое, но, естественно, это не получалось. Опасение, что Пауль действительно нанесет мне визит, в конце концов превратилось в навязчивый кошмар. У меня было ощущение, что с минуты на минуту откроется дверь и войдет Пауль. В своей униформе сумасшедшего. И я уже мысленно видел, как санитары ищут его здесь, как они запихивают его в смирительную рубашку и дубинками гонят назад, к “Штайнхофу”; эта ужасающая картина прочно засела в моем сознании. Он достаточно неосторожен, говорил я себе, и наверняка совершит эту ошибку: пролезет через дыру в ограждении, и доберется до корпуса “Герман”, и бросится к моей кровати, и обнимет меня. В периоды своих так называемых критических состояний Пауль нередко подбегал к какому-нибудь человеку и обнимал его так крепко, что тому казалось, будто он сейчас задохнется в этих объятиях, а потом начинал рыдать у него на груди. Я в самом деле боялся, что Пауль может внезапно ворваться ко мне, и обнять меня, и разрыдаться на моей груди. Я любим его, но не хотел, чтобы он меня обнимал, я терпеть не мог, когда он, в свои пятьдесят девять или шестьдесят лет, разражался рыданиями в моем присутствии. В таких случаях он обычно дрожал всем телом, бормотал что-то нечленораздельное. На его губах выступала пена, и он до тех пор цеплялся за тебя, пока это не становилось почти невыносимым, — и приходилось освобождаться силой. Я не раз отталкивал его, естественно, против воли, но иначе было нельзя — он чуть ли не расплющивал меня в своих объятиях. В последние годы эти “приступы обнимания” стали еще более душераздирающими, и требовалось огромное самообладание, не говоря уже о недюжинной силе, чтобы освободиться из его объятий. Все давно понимали, что Пауль насквозь и смертельно болен. И было только вопросом времени, когда именно его доконает внезапный приступ. “Ты — мой единственный друг, моя единственная надежда, последний, кто у меня остался”, - бормотал Пауль человеку, которого сжимал в объятиях, а тот не знал, как наиболее безболезненным образом утихомирить несчастного. Я боялся таких обниманий, боялся, что Пауль может в любой, самый неожиданный момент ворваться в мою дверь. Но он не пришел. Я со страхом ждал, когда он ворвется ко мне, но он не ворвался. От Ирины я узнал, что он пластом лежит на своей койке в корпусе “Людвиг” и даже отказывается принимать пищу. В результате применения здешних терапевтических методов Пауль обычно совершенно лишался сил, и врачи, добившись своей цели, оставляли его в покое. Когда он превращался в скелет и терял способность самостоятельно подниматься с кровати, они его отпускали. И он ехал на машине одного из своих братьев — или не на машине одного из своих братьев, а просто на такси — к Траунзе, чтобы на пару дней или даже недель укрыться в том витгенштейновском доме, в котором, согласно специальному договору, мог жить до своей смерти: это была лет двести назад построенная в высокогорной долине между Альтмюнстером и Траункирхеном крестьянская усадьба, где старая преданная Витгенштейнам и всю жизнь прослужившая им кухарка вела небольшое подсобное хозяйство для нужд выезжавших “на природу” господ. Жена Пауля Эдит никогда не сопровождала его в Траункирхен, а ждала в Вене. Эдит знала, что Пауль поправится, только если рядом с ним никого не будет — даже ее, самого близкого человека, женщины, которую он действительно любил до самой смерти. Приезжая на Траунзе, он всегда навещал меня — но не в первые дни, а позже, когда набирался смелости, чтобы появиться на людях, когда уже не опасался, что привлечет к себе бесцеремонные любопытные взгляды, когда его опять тянуло к разговорам и даже к философствованию. Если погода к тому располагала, он усаживался у стены моего дома в Натале и, прикрыв глаза, слушал какую-нибудь пластинку, которую я запускал в комнате второго этажа и которую при широко распахнутых окнах было превосходнейшим образом слышно также и снизу, со двора. “Что-нибудь Моцарта, пожалуйста”, "Штрауса, пожалуйста”, “Бетховена, пожалуйста”, говорил он. Я знал, какую пластинку лучше поставить, чтобы привести его в хорошее настроение. Мы с ним часами, не произнося ни слова, слушали Моцарта или Бетховена. Мы оба это любили. Приготовленный мною скромный ужин завершал день, и потом, в сумерках, я на своей машине отвозил Пауля домой. Те безмолвные музыкальные вечера, проведенные вместе с ним, я никогда не забуду. Ему требовалось около двух недель, чтобы, как он сам выражался, привести себя в норму. Он оставался в Траункирхене до тех пор, пока сельская жизнь не начинала действовать ему на нервы, пока не наступал момент, когда он хотел только одного — вернуться в Вену. Там, в Вене, проходило четыре или пять месяцев, прежде чем обнаруживались первые признаки нового обострения, ну и так далее. В первые годы нашей дружбы Пауль почти безостановочно пил, что, естественно, ускоряло развитие болезни. Когда он бросил пить — в общем, без особого труда, — его состояние сперва пугающе ухудшилось, но потом быстро пошло на поправку. С тех пор Пауль в рот не брал спиртного. А ведь раньше никто не мог с ним сравниться по этой части; с утра заглянуть в “Захер” и разговеться там парой бутылок шампанского было для него делом самым обычным, даже не заслуживающим упоминания. В “Обенаусе”, маленьком ресторанчике на Вайбурггассе, он однажды за вечер вылакал несколько литров белого вина. Такое, конечно, и для него не проходило бесследно. Если не ошибаюсь, он бросил пить за пять или шесть лет до смерти. Не решись он на это, возможно, умер бы тремя или четырьмя годами раньше, и этих лет было бы очень жаль. Потому что только в последние годы Пауль стал настоящим философом, тогда как раньше был лишь философствующим ловцом наслаждений; правда — и именно это делало его столь достойным любви, — он и наслаждаться умел так, как ни один другой человек из тех, кого я встречал в своей жизни. В корпусе "Терман", находясь, по сути, в состоянии смертного страха, я впервые ясно осознал, что значила для меня дружба с Паулем; осознал, что она была самой ценной из всех моих связей с людьми — единственной, которую я мог выдерживать достаточно долго и от которой ни при каких обстоятельствах не желал отказаться. Тогда же я внезапно испугался за этого человека, вдруг ставшего для меня самым близким, испугался, что могу его потерять, причем по двум причинам: по причине моей или по причине его смерти, ведь ровно настолько же, насколько я сам в те недели и месяцы был — в корпусе “Герман” — близок к смерти (по крайней мере, по моим собственным ощущениям), настолько же близок к смерти был он — в корпусе “Людвиг”. Я вдруг затосковал по этому человеку — единственном мужчине, с которым я мог по-настоящему общаться, вести разговор на любую, даже наитруднейшую тему. Мне давно не хватает таких разговоров, не хватает способности Пауля слушать другого, объяснять свое мнение и одновременно воспринимать чужое, думал я. Как же давно это было — наши с ним разговоры о Веберне и Шёнберге, о Сати,
[18] Эрик Сати (1866–1925) — французский композитор-минималист, автор фортепьянных пьес, балета “Парад" (1916), симфонической драмы “Сократ” (1918).Читать дальше
Интервал:
Закладка: