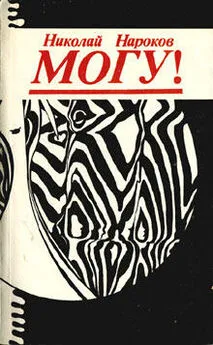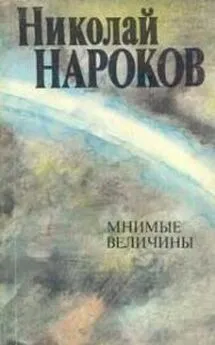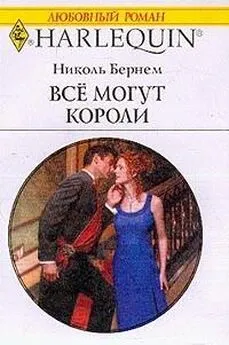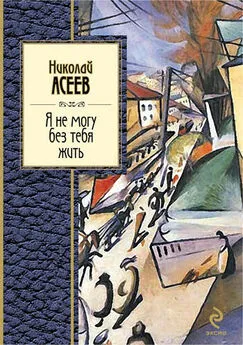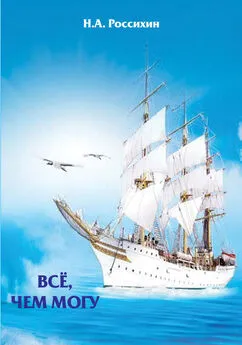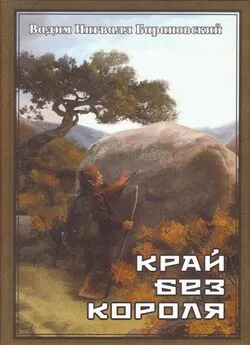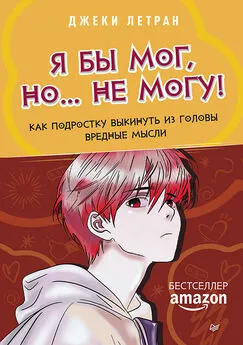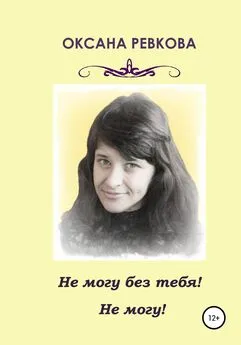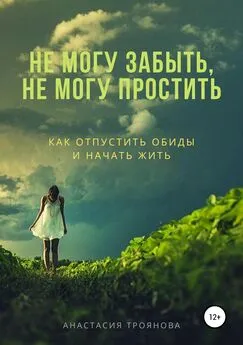Николай Нароков - Могу!
- Название:Могу!
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Дружба народов
- Год:1991
- Город:Москва
- ISBN:5-285-00120-Х
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Николай Нароков - Могу! краткое содержание
Советскому читателю пока знаком лишь один роман Николая Владимировича Нарокова (1887–1969), известного писателя русского зарубежья, — «Мнимые величины». Без сомнений, и роман «Могу!» будет воспринят у нас с не меньшим успехом. Порукой тому служит мастерская зарисовка автором ситуаций, характеров и переживаний персонажей, которые захватывают и держат читателя буквально с первой до последней страницы.
Могу! - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
— Благословлять! Колоссально благословлять! Знаете, как Иоанн Дамаскин у Алексея Толстого: «Благословляю вас, леса, долины, нивы, горы, воды! Благословляю я свободу и голубые небеса! И посох мой благословляю, и…»
— Боже мой! — Борис Михайлович стихами заговорил!
— Да-с, стихами! Не одному же Виктору стихами говорить, и мне тоже можно! И когда я вот в таком пьяном настроении, так я не только стихами говорю, а даже петь начинаю: кантату какую-нибудь или гимн! И обязательно басом!
— Никогда еще не слышала, чтоб вы пели… Вы басом поете?
— А это как придется!.. Если я умиротворенно в ванне сижу, то — тенором, а если я в восторге, то — басом!
— А вы не боитесь в вашем восторге за руль садиться?
— Ничуть не боюсь! Ведь когда я в пьяном настроении, то я знаю, что я пьян, а поэтому и веду себя трезвее, чем в самом трезвом виде! У меня, надо вам сказать, характер вдумчивый и устремленный, а поэтому я… Впрочем, я совсем не то хотел сказать!.. Адье!
Он сделал пируэт, развел руками, поклонился, как балетная танцовщица, а потом бросился к двери и стремительно распахнул ее. Но не выбежал, а почему-то сразу и резко остановился, как будто его поразило то, что он увидел.
— Что там такое? — заинтересовалась Юлия Сергеевна.
— Бабочка! — показал он пальцем на косяк двери. — Бабочка!
— Их много здесь летает! — равнодушно посмотрела Елизавета Николаевна.
— Гм! Бабочка! — тотчас же углубленно задумался Табурин. — А что такое бабочка? — повернулся и наставительно спросил он. — Строго говоря, это довольно отвратительный червяк на шести ножках, но природа дала ему крылья, и вот — сильфида!
— Так что же?
— Как «что же»? Очень даже «что же»! Колоссально очень! Червяк и — сильфида! Червяк и — сильфида! Ведь это значит… Что это значит? Это значит — окрыляйтесь! Не ползайте внизу по всякой дряни, а окрыленно порхайте в волшебной лазури! Да-с! Окрыляйтесь же!
И он выбежал вон. Через минуту его автомобильчик запыхтел, зафыркал и помчался по улице.
— Чудак он! — улыбнулась Елизавета Николаевна. — И чудак, и еретик, а я вот люблю его!
— И я люблю… — ласково согласилась Юлия Сергеевна.
Глава 26
Все, что сказал Табурин, могло быть справедливо и могло быть несправедливо, он мог что-то доказать, но мог и ничего не доказать. И для Юлии Сергеевны дело было не в справедливости и не в доказанности, а только в том, что она сама думала так или, вернее, была близка к тому, чтобы думать так, как Табурин. Привычные понятия и понимания мешали ей видеть в лжи добродетель, и в словах Табурина чудилась казуистика и недобросовестная софистика. «Цель оправдывает средства?» — уязвляла она себя, но не понимала, что значит «оправдание» того, против чего нельзя выдвинуть обвинение.
Ложь и сокрытие правды… «Разве это не одно и то же?» — неуверенно спрашивала себя Юлия Сергеевна. Разницу она, кажется, чувствовала, но не до конца четко понимала ее. И с особой силой, с особым значением припоминала теперь грустную историю о том, как ее покойный отец и Елизавета Николаевна несколько лет подряд скрывали истину. Лгали? Нет, но скрывали. Это началось давно, когда Юлия Сергеевна была еще девочкой-подростком, а потому сама она в заговоре не участвовала и узнала о нем лишь потом, несколько лет спустя.
У Елизаветы Николаевны была старая знакомая, душевно близкая ей, любимая и ценимая. В 1920 году, после краха белой борьбы с большевиками, она и ее муж бежали из России. Но при этом вышло как-то так, что их сын, юноша, не смог бежать и остался. После долгих поисков они из Америки разыскали его: он жил где-то под Москвой. Началась переписка, но скоро оборвалась, т. к. советским гражданам стало опасно «поддерживать связь с заграницей»: это не только компрометировало, но и считалось политическим преступлением. Потом эта знакомая овдовела, жила одиноко и все думала о сыне.
Но в годы сталинского террора одному их общему знакомому сделалось доподлинно известно, что этот ее сын погиб: расстрелян в общей массе расстрелянных. Знакомый, принеся трагическую весть, посоветовался с Елизаветой Николаевной и ее мужем, и все трое решили: скрыть от матери правду о сыне.
Скрывали тщательно и бережно, много лет подряд. И старая мать правды не знала. Она постоянно думала о том, что ее сын, наверное, уже женился, что у нее есть внуки, которым их отец рассказывает о бабушке в Америке. Сын был мертв, но для матери он был жив. Она умерла только после войны, но правды о сыне так и не узнала и, умирая, благословляла его и неведомых ей внучат. Мертвый для нее был живым. Его смерти для нее не было.
Юлия Сергеевна и раньше всегда волновалась, когда вспоминала эту грустную историю. Но сейчас, вспоминая ее, волновалась особенно и по-особенному. Новый смысл открылся ей в утаенном: оно не существует. Нет того, что есть, если мы о нем не знаем. «Но как это может быть, что нет того, что есть?» — взволнованно спрашивала она себя. Но не сомневалась: его нет. И то, что его нет, открывало перед нею непреложно закрытое.
Она ничего не взвешивала, не опиралась на логику и на рассуждения, не делала выводов и не принимала решений. Она поплыла по течению, которое просто и естественно подошло к ней, подхватило ее и понесло с собой. И ничего не мешало ей плыть, она никуда себя умышленно не направляла и ни с чем не боролась. Никакого решения ей никто не подсказывал, но оно родилось само по себе, и она чувствовала его так непосредственно, как чувствует каждый человек, что сама жизнь разрешает ему быть веселым и радостным.
Она не говорила себе — «Теперь можно допустить наше «больше» — и даже не думала о «больше», но внутренне чувствовала, что оно уже перестает быть для нее запретом, а становится возможностью, которая так же проста, легка и естественна, как сон после утомительного дня. Она была готова принять все, что придет, и улыбалась тому, что оно будет двойственным: оно будет, но его не будет. Оно будет только для нее, для всех же других его не будет, как не было для обманутой матери смерти сына. «Ведь для нас существует только то, что мы знаем, а то, чего мы не знаем, для нас не существует!» — упорно убеждая себя, повторяла она. И припомнила полувымышленную историю о том, как в результате неведомой космической катастрофы сгорела и распалась на части какая-то далекая звезда. Она уже перестала существовать, и ее уже не было, но свет от нее еще несколько лет шел на землю, и астрономы на земле продолжали видеть, наблюдать и изучать ее. «Эти астрономы считали, что есть то, чего нет!» — пыталась понять Юлия Сергеевна. — И вот точно так же может не быть того, что есть».
Когда она через два-три дня после разговора с Табуриным встретилась с Виктором «на нашей площадке», она ничего не сказала ему: ни о словах Табурина, ни о том новом, что появилось в ней. Но Виктор заметил, что новое есть: яснее стали смотреть глаза, звонче зазвучал смех, нежнее говорились слова, ласковее прижимались губы. И во всем было непонятное и неопределенное, но своей непонятностью обещающее. Виктор взволновался и чуть было не спросил — «Что с вами?» — но удержался: побоялся, что не имеет права на этот вопрос. «Если можно и если она сама захочет, то скажет».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: