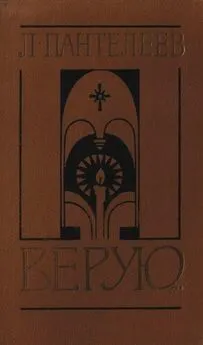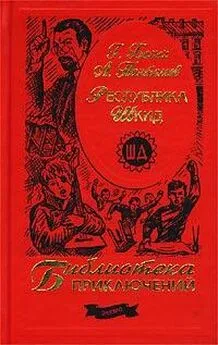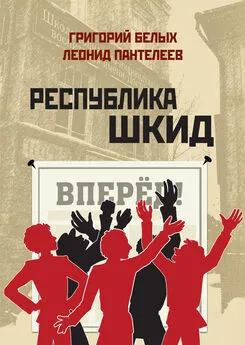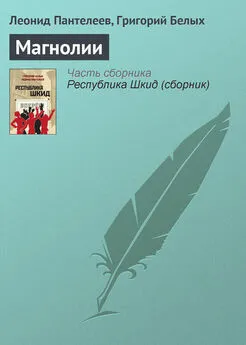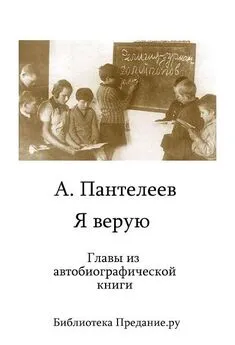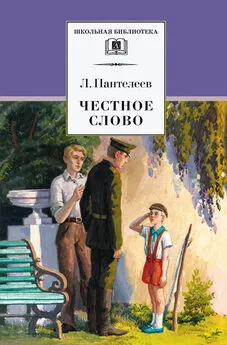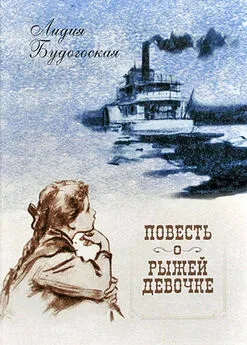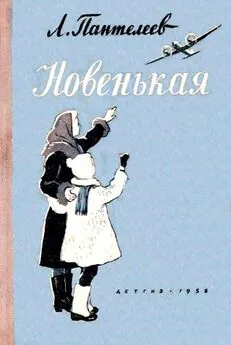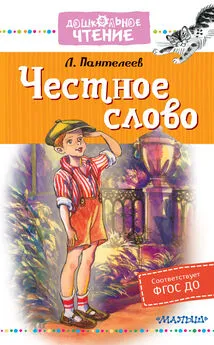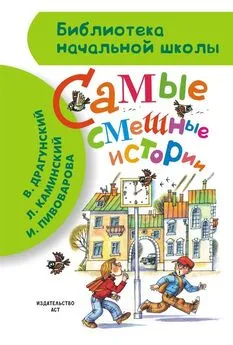Леонид Пантелеев - Верую…
- Название:Верую…
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Советский писатель
- Год:1991
- Город:Ленинград
- ISBN:5-265-01169-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Леонид Пантелеев - Верую… краткое содержание
Вошедшие в книгу произведения Л. Пантелеева (1908–1987), классика советской литературы для детей, не предназначались автором для прижизненной публикации: их безоглядная исповедальность и правдивость слишком резко контрастировали с общественными нравами застойной эпохи. Кроме автобиографических записок «Верую…» в книгу включена также документальная повесть «Дочь Юпитера» — о дочери последнего петроградского военного диктатора генерала С. Хабалова, в неожиданном ракурсе освещающая интереснейшие страницы нашей истории.
Верую… - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Не знаю. Могу сказать только, что влекло неудержимо.
Так было, помню, и десять лет назад, когда орден мне нацепляли в Мариинском дворце и когда, простившись на площади с Натаном Альтманом, тоже в этот день получившим орден, я прошел в Никольский собор…
Стыдно признаваться в этом и тягостно употреблять это слово, но понимаю, что тут есть все-таки и некоторая доля авантюризма — в этом хождении по острию ножа. Но, разумеется, главное — не это. Главное — потребность омыться, очиститься, а также, не скрою, и возблагодарить Бога за то, что, при всей двуличности моей жизни, я ничего не делаю заведомо злого, что охраняет меня Господь от недоброго, наставляет на доброе. Не проповедуя слова Божия на площадях и стогнах, часто не называя вещи своими именами, я, по мере сил своих и но мере возможности, стараюсь, возжегши тайно светильник, внести теплый свет христианства во все то, что выходит из-под моего пера. Там, где можно. А там, где нельзя, — там и не получается ничего или получается плохо. Сила моей дидактики, „моральной проповеди“, о которых упоминал в своих статьях К. И. Чуковский, объясняется лишь тем, что она основана на моей христианской вере.
Язык, на котором я пишу свои книжки, — эзопов язык христианина.
Опять утешаю себя и опять оправдываюсь. И, в общем, слова для такой оправдательной речи найти можно. Как быть автору, которого Бог наградил даром детского писателя? Если и взрослому писателю трудно писать „в ящик“, не видя и не чувствуя аудитории, то для писателя детского это и вовсе невозможно. Только расчет на публикацию, на оглашение написанного тобой заставляет тебя тщательно работать над словом, отделывать написанное, доводить его до возможного совершенства. По себе знаю: то, что писалось без надежды на скорую публикацию, — как правило, написано вяло, в лучшем случае на четверку с минусом. Примером могут служить хотя бы эти мои записки. На что я рассчитываю? На лучшие времена? Но когда они наступят? Доживу ли я до них?
Говорят: рукописи не сгорают?
Но ведь сказавший это, когда писал , — я уверен в этом, — надеялся на возможность прижизненной публикации!
А если не надеялся — то его титаническая работа над „Мастером“, филигранная отделка текста, один, второй и третий варианты — лишнее свидетельство его титанического же таланта, если не гениальности!..
А нам, не гениальным, податься некуда. Не писать не можем. Писать „для потомков“ — не получается. Вот и бредешь по той, единственно возможной, как тебе кажется, дороге, держишься единственно доступного тебе курса: не участвуешь ни в каком явном эле, делаешь и проповедуешь в меру твоих возможностей и способностей — доброе. И при этом все ждешь, что окликнут тебя, остановят, скажут с усмешкой:
— А коммунистическая ли это мораль, которую вы проповедуете, товарищ Пантелеев?
Были такие попытки.
Был такой Чевычелов Дмитрий Иванович, директор ленинградского Детгиза. Маленький человечек, никогда не снимавший — ни на улице, ни в помещениях, ни даже у себя в кабинете — ермолки. Этот Чевычелов многократно и где только можно выступал против моего рассказа „Честное слово“, заявляя, что проповедуемая там мораль — не коммунистическая.
И мне однажды — один на один — сказал:
— Когда-нибудь я это все-таки докажу, Алексей Иванович. Что коммунисту честное слово не всегда и не во всех случаях следует держать…
В свое время, в годы нашей общей молодости Чевычелов работал цензором и ему, лучше чем кому-либо другому, положено было знать, что такое коммунистическая мораль. Конечно же, его героем был Павлик Морозов, доносчик на собственного отца, а не глупенький беспартийный мальчик из рассказа „Честное слово“, мальчик, который считает, что быть честным надо во всех случаях жизни!..
Проповедью активного христианства может быть, мне кажется, назван рассказ „У Щучьего озера“. Недавно в журнале „Детская литература“ рассказ этот хвалил критик С. Сивоконь, но хвалил не за главное, хвалил за патриотизм, за удачное описание чувства ностальгии у эмигрантов, а ведь рассказ не об этом. Основная мысль его: „Возлюби обижающего тебя“. Не в лоб, не прямо, но именно об этом говорит старуха Корытова, мать председателя колхоза, приколовшая к тумбочке на могиле второго своего сына лучинный крестик… Прямо, повторяю, ни о чем там не говорится, но рассказчик понимает, что его собеседница — человек одной с ним веры, что о» и единомышленники. И опять-таки ничего прямо не докладывая читателю, наоборот, несколько даже иронически выслушав рассказ старухи, попрощавшись с нею и оставив ее на могиле сына, он идет со своей собакой в сторону Щучьего озера и — радуется… «А я шел, и посвистывал, и посмеивался, и размахивал палкой. И много о чем думалось мне в этот благодатный, благословенный, солнечный осенний день».
Человек только что выслушал скорбный рассказ матери, потерявшей на войне двух сыновей. С чего же это он посвистывает, и посмеивается, и размахивает палкой? Чему радуется? А тому только, что есть еще на нашей земле такие женщины, которые не хотят жить «по ихним законам», по законам людей, разоряющих чужие могилы…
«Много о чем думалось мне…» Сказано это в расчете на то, что и читатель задумается. И порадуется. Заразится радостью. И эта радость как-то свяжется у него с лучинным крестиком и с образом старой советской женщины, ухаживающей за могилой эмигрантки.
Прямо-то, я говорю, о чем хочется сказать, не скажешь. Вот и засовываешь мысль в подтекст. Прибегаешь к языку эзопову…
А ведь было время, когда можно было и без эзопова, когда очень даже свободно можно было говорить на Руси на эти темы. И удивляюсь, до чего же мало и как бледно и походя говорилось об этом даже теми, кто открыто исповедовал христианство. Даже у таких титанов, как Достоевский, Гоголь, молодой Толстой, религия чаще всего выносится за скобки. Или изображаются колебания и сомнения верующего в Бога человека.
Ярче всего сказал о Христе, о христианстве, о церкви такой, казалось бы, индифферентный к религии человек, как А. П. Чехов. Его «Студента» я читал своей Маше еще до Евангелия — это было для нас и литературой и Законом Божьим. А кто в русской словесности горячее и проникновеннее написал образ священнослужителя, как не тот же Чехов — в «Архиерее» или в рассказе «Святой ночью»!..
У Лескова — у того тенденция, заданность. Достоевский — наоборот, боится тенденции. Да и вообще только под конец жизни задумал он художественную трактовку наиглавнейших вопросов бытия. «Крокодил», «Село Степанчиково», даже «Преступление и наказание» — разве они о главном?..
Недавно где-то наткнулся (кажется, у Б. Бурсова) на цитату из письма Достоевского — к жене, если не ошибаюсь… Там он жалуется на критику его взглядов из враждебного ему радикального лагеря. «Что же я, по их мнению, религиозный фанатик какой-нибудь!» — пишет он.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: