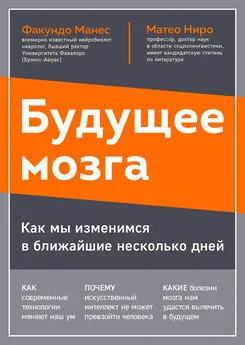Манес Шпербер - Как слеза в океане
- Название:Как слеза в океане
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Художественная литература
- Год:1992
- Город:Москва
- ISBN:5-280-01421-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Манес Шпербер - Как слеза в океане краткое содержание
«Всегда, если я боролся с какой-нибудь несправедливостью, я оказывался прав. Собственно, я никогда не ошибался в определении зла, которое я побеждал и побеждаю. Но я часто ошибался, когда верил, что борюсь за правое дело. Это история моей жизни, это и есть „Как слеза в океане“». Эти слова принадлежат австрийскому писателю Манесу Шперберу (1905–1984), автору широко известной во всем мире трилогии «Как слеза в океане», необычайно богатого событиями, увлекательного романа.
Как слеза в океане - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
— Она твоя жена?
— Да. Она совсем недавно в партии, но у нее там уже довольно сильная позиция. Конечно, она чрезмерно строга, но, пожалуй, так и должно быть, иначе…
— Оставь, давай поговорим о тебе, Жиро. Я думал, ты вышел вместе с Лагранжем летом тысяча девятьсот сорокового…
— Нет, абсолютно нет, никогда! Я только работал в той же самой группе Сопротивления, что и он. За это время всем уже стало ясно, что партия по всем пунктам была права. Красная Армия…
— Ты что будешь заказывать себе, Жиро? Бокал красного?
— Да, но это не к спеху. Красная Армия…
— А я лучше закажу сразу, потому что, возможно, наш разговор будет очень коротким. Не рассказывай мне того, что напечатано в ваших газетах, это я и так знаю. Не повторяй мне тексты плакатов, которыми вы наводнили город и страну. Я пришел сюда пешком от самого Малакофа [224] Квартал Парижа, названный так в честь Малахова кургана.
— я их все видел. Здесь тебя никто не слышит, давай поговорим серьезно, скажи всю правду. Ты порвал летом сорокового с партией, нет, это, конечно, правда, ты не посылал туда никаких заявлений, ты просто вышел из нее, так же, как и Лагранж. Но со временем ты вернулся в нее, поскольку считаешь, что именно она одна и есть победительница и всего один шаг отделяет ее от власти.
— Мне не нравится твой тон, Фабер. Я мог бы встать и уйти, я не обязан отчитываться перед тобой. Но раз уж ты возвратился во Францию, то должен, по крайней мере, узнать истинное положение вещей. Практически здесь нет никого, кто бы решился публично выступить против нас. Нация — это мы, партия. В группах Национального фронта мы объединили всех, кто мог быть нам полезен: среди прочих и священники всех религий, католические писатели, либеральные философы — и кого там только нет! Стоит нам лишь поманить мизинчиком, ты понимаешь? А тут заявляешься ты и хочешь противопоставить нам себя? Ты что, окончательно спятил? И поскольку ты говоришь, что меня здесь никто не слышит, так слушай, Фабер, меня хорошенько: в мае мне исполнится сорок лет. Из них двадцать один год я отдал рабочему движению, партии. И я всегда был с партией, когда борьба шла не на жизнь, а на смерть. И вот наконец-то мы у цели — власть? Да, власть! Посты в государстве, которое скоро будет принадлежать нам одним — да, а почему бы и нет? И в такой момент я должен противопоставить себя партии, может, даже уйти в эмиграцию? Сказать «нет» капитализму и «нет» коммунизму — а что же тогда останется? Может, привязать булыжник и бултых в Сену! Это, вероятно, то единственное конкретное дело, которое ты смог бы предложить мне.
— А Лагранж? — спросил Дойно. Он обвел взглядом фиолетовые стены унылого помещения, прежде чем опять посмотрел на профиль Жиро.
— Что Лагранж?
— Лагранж тоже вернулся в партию?
— Нет. Он мертв. Я думал, ты знаешь это.
— Кто его убил? Когда?
— Точно я этого и сам не знаю, — ответил Жиро. Он не отрываясь смотрел на молочное стекло двери, ведущей в служебное помещение.
— Расскажи, что тебе известно, даже если это будет и не совсем точно.
— Ты должен понять, в дни освобождения здесь царила полная сумятица. Его, конечно, знали, и он был неосторожен, а тут еще эта история с нападением на тюрьму и с испанскими анархистами. Это, правда, было не совсем тут, а на юго-западе. Короче, с этими испанцами, по-видимому, обошлись не слишком вежливо.
— Как это — «обошлись»? Кто?
— Ну, наши люди. А Лагранж заступился за них. Это было, как я уже сказал, смутное время, сводили счеты с предателями, с коллаборационистами…
— Лагранж был одним из первых в этой стране, кто поднялся на борьбу и положил начало Сопротивлению. И тебе, Жиро, это известно лучше, чем кому-либо другому.
— Да, конечно. Но все-таки каким-то образом на него пало подозрение. И с ним быстро разделались.
— Как это — «разделались»? Кто?
— Ты уже один раз спросил, и я тебе ответил. И почему ты именно меня расспрашиваешь об этом? А почему не своего друга Менье? Он об этом так же хорошо знает, как и я.
— Он в отъезде, вернется только сегодня ночью.
— Да, он выступает на собраниях представителей Национального фронта, он из сочувствующих и очень активен, всегда готов откликнуться на наш зов.
Жиро наконец-то повернул свое лицо к Фаберу. У него по-прежнему были ясные глаза и открытый взгляд. Ничего удивительного, подумал Дойно, в течение тридцати девяти лет они принадлежали порядочному человеку. Он поднялся, положил на стол деньги за выпитое и вышел. И только уже на улице надел пальто.
Редкий дождь вскоре прекратился, показалось солнце, но тут же опять скрылось за быстро несущимися облаками. На набережной дул холодный ветер. Гуляющих было очень немного. Двое американских солдат остановили Дойно, они хотели знать, где можно хорошо, по-настоящему хорошо, повеселиться. И пока он колебался, думая, как ответить, они угостили его сигаретой. Это были совсем молодые люди, ему стало жалко их, потому что он на самом деле не мог дать им толкового совета. В конце концов он отправил их на Монпарнас.
Он невольно подумал о Джуре, того всегда тянуло к набережным. А вот и тот маленький сквер, где Джура рассказал ему о смерти Вассо, и вот та скамейка. Он сел. Справа было Cafe des clochards [225] Кафе клошаров (фр.).
. Говорили, что нацисты разгромили его. Кафе изменилось, стало элегантным. По правую руку на острове высилась громада Нотр-Дам. Все новые здания обветшали за эти годы, и только собор светился в лучах еще редкого весеннего солнца. Только он остался верен своей неувядающей тысячелетней юности.
Джура не любил церквей, но молящиеся всегда привлекали его внимание. Он охотно принимал участие в процессиях, пытаясь постичь внутренний огонь, сжигавший других. Свою собственную страсть он всегда отравлял сомнениями, рассеивал ее насмешками, а вот за страстью других людей он всегда предполагал найти нечто трагическое: угрозу насильственного убийства, обещание примирительной смерти. Да, Джура верил в примирение, во всеобщую примиренность всех со всеми.
— И мне бы следовало в это верить, — сказал Дойно вполголоса. В последнее время с ним нередко случалось, что он разговаривал сам с собой. Он должен был бы запретить себе такое, но он больше не был так строг к себе по мелочам. На кладбище Пер-Лашез, у могилы Штеттена, которую он посетил накануне, он впервые за много лет опять позволил себе насладиться метафизикой: стал рассматривать жизнь с точки зрения смерти. «Недостойная лирика подростка и алкающих действия бездействующих. Нечистоплотность мышления. Я только играю, профессор, я не забываю, что мысленная смерть, так же, как и мысленное небытие являются частью самой жизни, всего лишь одним из бесчисленных проявлений бытия. Но я теперь позволяю себе кое-какие слабости. Оставляю все, что не является действительно важным, без внимания!»
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:


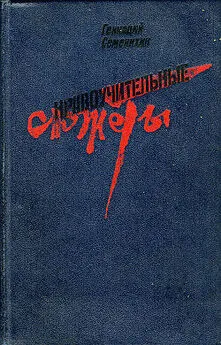


![Василий Маханенко - Слеза Альрона [СИ]](/books/1068744/vasilij-mahanenko-sleza-alrona-si.webp)