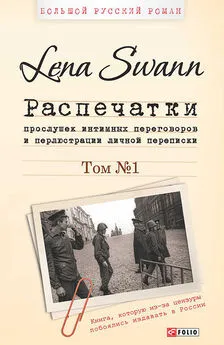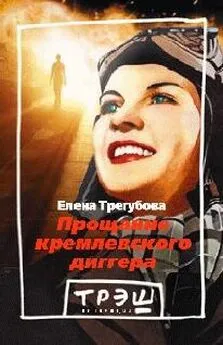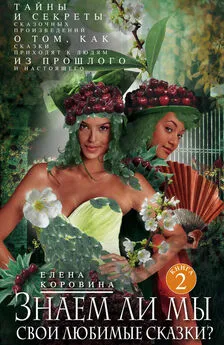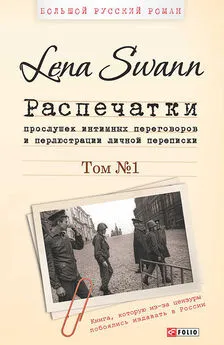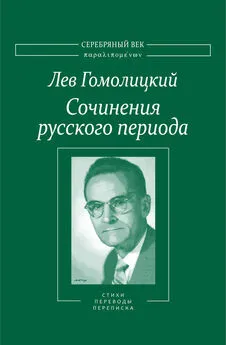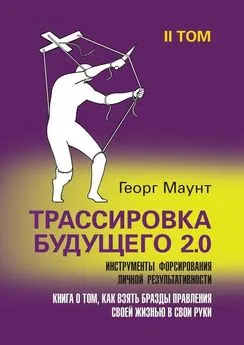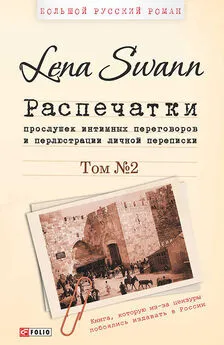Елена Трегубова - Распечатки прослушек интимных переговоров и перлюстрации личной переписки. Том 1
- Название:Распечатки прослушек интимных переговоров и перлюстрации личной переписки. Том 1
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Фолио
- Год:2015
- Город:Харьков
- ISBN:978-966-03-7173-6, 978-966-03-7171-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Елена Трегубова - Распечатки прослушек интимных переговоров и перлюстрации личной переписки. Том 1 краткое содержание
Роман-Фуга. Роман-бегство. Рим, Венеция, Лазурный Берег Франции, Москва, Тель-Авив — это лишь в спешке перебираемые ноты лада. Ее знаменитый любовник ревнив до такой степени, что установил прослушку в ее квартиру. Но узнает ли он правду, своровав внешнюю «реальность»? Есть нечто, что поможет ей спастись бегством быстрее, чем частный джет-сет. В ее украденной рукописи — вся история бархатной революции 1988—1991-го. Аресты, обыски, подпольное движение сопротивления, протестные уличные акции, жестоко разгоняемые милицией, любовь, отчаянный поиск Бога. Личная история — как история эпохи, звучащая эхом к сегодняшней революции достоинства в Украине и борьбе за свободу в России.
Распечатки прослушек интимных переговоров и перлюстрации личной переписки. Том 1 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Но как-то, этой уже весной, Елена случайно увидела, как в холодном вестибюле школы, между раздевалками, Влахернский возвращает Свете Спицыной крысьего цвета том Гегеля — и удивилась, мельком, что Влахернский умеет читать. Впрочем, Гегель, с его одержимым обожествлением вполне сатанинской внешней истории человечества, в представлении Елены, никоим образом не противоречил ни агрессивному буйству Влахернского, ни его внезапной лагерной беременности, а, наоборот, был в общем-то в полном органическом соответствии со всем этим — и даже логически все это продолжал.
Так что теперь, когда Татьяна предупредила о появлении такого спутника в церкви, Елена уж не знала чего и ждать.
— Ты не помнишь, кстати, Илья, кто из философов сказал, что змей в Эдемском саду по сути просто прочитал Адаму и Еве краткий курс философии Гегеля? — не удержалась и съязвила Елена, когда косолапый, громадный, упитанный, широкоплечий Влахернский подошел к ней в воскресенье в церкви здороваться.
Влахернский, однако, в ответ задирался не стал — а угрюмо встал в очередь к отцу Антонию на исповедь (к некоторой зависти Елены — для которой исповеди были только исповедальными беседами, без канонического разрешения, из-за некрёщенности), у правого дальнего алтаря.
Выглядел Влахернский не просто притихшим — а каким-то внутренне глубоко сокрушенным. В разговорах, урывками, после службы, полунамеками прозвучало, что пережил он настоящее обращение, и, как Елена поняла опять же по полузвукам-полутонам — обращение это не было светлым, как у нее, а связано было, скорее, с каким-то трагическим событием и с его неотступным ощущением собственной вины — о деталях допытываться было, разумеется, невозможно.
Видя старушек, прикладывающихся ко всем подряд иконам, Влахернский еле слышно бунчал себе под нос:
— Я этого не признаю́…
И никогда не крестился частя, гаком, хором, со всем храмом вместе — во все традиционные для богослужения моменты. А после долгих исповедей у батюшки Антония накладывал троеперстием крест на себя, как что-то действительно ощутимо тяжелое, как что-то, что он в физическом смысле взваливает на плечи.
Елене же все эти его придирки к традициям по мелочам казались такой ерундой: какая разница, если жива вера в сердце! «И иконы, и свечи, и поклоны, и накладывание креста — это ведь в сущности как внешние ступеньки лестницы, ведущие вверх — думала она, с умилением рассматривая сосредоточенные, счастливые, светящиеся, зажигающиеся лица молящихся, — …и молитвенные ступеньки эти оправданны в той мере — и именно и только до тех пор — пока и если они помогают! И если кому-то эти внешние поддерживающие ступеньки нужны в большей степени — а кому-то в меньшей степени — стоит ли вообще об этом даже вслух и говорить! Церковь — это ведь в какой-то степени вообще — живая метафора! Живая, удивительная, жаркая метафора реального Царствия Божия!»
И горячо полюбила как-то сразу, всем сердцем, всю непосредственную, выразительную мимику веры в православном богослужении — одновременно вполне допуская, что у кого-то мимика веры иная — и вера Христова от этого иной, или менее верной не становится.
Но одновременно — так счастливо-важно, на вечернях, было вовремя кивнуть — в знак принятия Духа Святого — перед тем как в тебя плеснут личную толику сладкого ладанного дыма.
Татьяна, так ненавязчиво, в пол-уха, в полслова (стоя всегда где-то рядом — но где-то и на уважительном отдалении), оплавляющим гласные голосом раскрывавшая ей смысл церковных богослужебных символов, казалась какой-то синхронной переводчицей — и действительно: язык! Язык, которым выражают главное! Вот что такое богослужение! — блаженно вдруг поняла Елена. И раздача матовых дымных запахов тоже казалась как бы земным сурдопереводом благословения небесной веры.
Анастасия Савельевна (настороженно — даже почти враждебно — по совершенно непонятной причине относившаяся к походам Елены в церковь) оказалась первой, кто сообщил Елене о смерти Сахарова — и опять горько плакали на кухне вместе, как в момент убийств мирных демонстрантов в Тбилиси.
А на следующий день Ленор Виссарионовна бесновалась на геометрии из-за того, что Ольга Лаугард, в честь треснувших во всю мочь холодов, заявилась в школу не в убогой форме, а в хорошеньких клетчатых брючках и слишком шедшей ей коротенькой приталенной зеленой вязаной кофточке с отворотом под горло.
— Лаугард! Ты что это тут вырядилась?! А?! А ну-ка встань! Ты куда пришла — в школу или на дискотеку?!
В вовсе недавнем прошлом — любимица математички, активистка и отличница Ольга Лаугард, собиравшаяся поступать на космонавтику, в последнее время как-то резко вышла у болезненно зацикленной на собственной крикливой одежде и внешности Ленор Виссарионовны из доверия — в связи с тем, что сделала себе шикарную химическую завивку, ходила с распущенными волосами и выглядела вызывающе хорошенькой — что Ленор Виссарионовну явно нервировало.
— А вы-то сами, Ленор Виссарионовна — вон, тоже в брюках! — изумилась Лаугард. — Я что, не человек? Мне холодно, что — я мерзнуть должна в форменной юбке, в минус восемнадцать?
— Что?! Дерзить учителю?! А ну встала! Пошла вон! Два в журнале! — фирменным своим скрипящим голоском заорала Ленор.
— Никуда я не пойду! — возмутилась Лаугард, никогда прежде в пререкания с Ленор не вступавшая — более того: называвшая ее всегда лучшим учителем в школе. — Я сюда учиться пришла, между прочим! Школа это не ваша личная собственность! — и демонстративно разложила перед собой тетрадку.
— Ла-у-гард! — по слогам, с откровенно плотским каким-то наслаждением выкрикнула Ленор Виссарионовна. — А ну встать! Вон отсюда! Два в журнале! Я не буду продолжать урок, пока ты не выйдешь из класса! Мне что, директора позвать, чтобы тебя вывели?!
Униженная Лаугард, красная, с блестящими глазами, схватив в охапку вещи, вынеслась — промелькнув, еще раз, на прощанье, перед глазами всего класса, своими симпатичненькими шерстяными клетчатыми брючками — чем вызвала у Ленор еще один спазм припадочного скрипучего крика.
Елена, выйдя демонстративно из класса вслед за этим левреточным лаем Ленор, твердо решила, что даже если прочерков будет — перебор, — то это все равно были ее последние гастроли на паскудном шоу математички.
А в субботу вечером бежала на исповедь под епитрахиль имбирной бороды батюшки Антония — каяться в праведном гневе; борода была из рода тех исконно русских редковатых бород, что всё никак не растут, но любовно, по волоску отращиваются, а потом вдруг пускают щедрые побеги в длину, но не в гущь — и на бороде, в самых ее истоках, искрились (батюшка Антоний только что вошел с улицы) бисеринки раздышанной изморози.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: