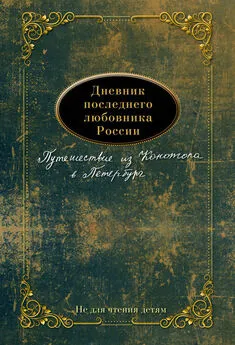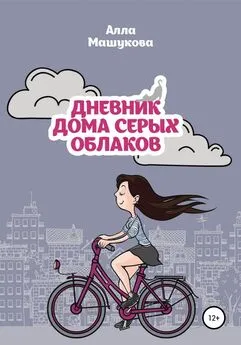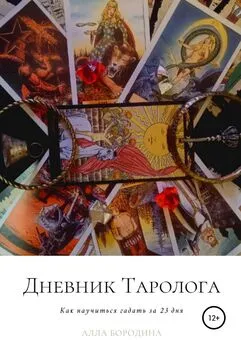Алла Борисова-Линецкая - Дневник горожанки. Петербург в отражениях
- Название:Дневник горожанки. Петербург в отражениях
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Книга-Сефер
- Год:2015
- ISBN:978-965-7288-31-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Алла Борисова-Линецкая - Дневник горожанки. Петербург в отражениях краткое содержание
Алла Борисова — известный питерский журналист и литератор. Она сотрудничала в ведущих газетах, журналах и сайтах. Ее материалы привлекали внимание искренностью и бескомпромиссной остротой.
Создавая свои очерки, колонки и интервью она одновременно сооружала интереснейшую книгу, которую достойно завершила в Израиле. Мастерство беллетриста позволило ей превратить каждый очерк в увлекательное произведение, как правило, снабженное новеллой.
В книге использованы статьи, опубликованные в газетах «Известия», «Невское Время», «Вечерний Петербург», в журналах «Активист», «Business Woman» и на сайте «Эхо Москвы».
Использованы фотографии Павла Маркина, Владимира Григорьева, Галины Зерниной, Сони Кабаковой, Юрия Борисова, Аллы Борисовой.
Издание осуществлено при поддержке Министерства абсорбции Государства Израиль.
Дневник горожанки. Петербург в отражениях - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Огромные участки с приличными домами в Комарово или в подмосковном Переделкино свидетельствовали о творческом и жизненном успехе, признании властями, впрочем, весьма непостоянном. Переделкинский житель Борис Пастернак сформулировал эту тягу к земле внутренне свободного человека: «Какое счастье — работать на себя и семью от зари до зари, сооружать кров, возделывать землю в заботах о пропитании, создавать свой мир, подражая Творцу в сотворении Вселенной, сколько нового передумаешь, пока руки заняты мускульной, телесной или плотничьей работой…» А что еще оставалось поэту в условиях тотальной несвободы?
Потом все выродилось в советские «шесть соток». Помню, как поразили моего немецкого гостя, который путешествовал со мной по ижорским дачным поселкам, склоненные спины людей на огородах. «Кто они, эти рабы на плантациях?» — спрашивал он, а я объясняла, что как раз никакие они не рабы, а, совсем наоборот: на даче человек чувствует себя свободно и рвется на свою делянку за глотком свежего воздуха. «Как это по-русски…» — сказал бы герой фильма Михалкова «12».
Те, кто дачными сотками не обладал, занимались съемом дач, то есть арендой — в Ленинграде-Петербурге было принято вывозить детей «на воздух». Ведь всем известно, что город наш на болотах и в граните зимой, весной и осенью душит влажностью, а жарким летом становится просто невыносимым.
Дачные радости — чай на веранде, «над озером звенят уключины и раздается женский визг», вечерний бадминтон, велосипедные прогулки, а позже и шашлык на лоне природы — были доступны и арендаторам.
Поселок Разлив вблизи Сестрорецка, с неизменным Лениным у станции, в июне-июле заполнялся отдыхающими. Магазины были полны народа, по Второй Тарховской фланировала публика в купальниках, направляясь на старинные разливские пляжи и Разливную набережную. Запахи шашлыков из каждого двора будоражили воображение.
Сегодня поселок опустел. Коттеджи и настоящие дворцы, в которых живут круглый год или держат пустыми до лучших времен, стали наступать на деревянные домики еще в 90-х. Это были незабываемые «стройки века». По утрам крик подвыпившего прораба означал начало рабочего дня. Быстро росли странные дома эклектичной архитектуры, с башенками и минаретами, или крепости в эстетике «Крестов» — с узкими зарешеченными окошками. И сейчас толстый владелец такого дома по вечерами выходит на улицу покурить — скучно там, за воротами с камерами слежения, что ли?
Или вдруг попадалась точная копия финского домика, но с не по-фински высоким забором. Стройки замирали, вновь возобновлялись — дворцы меняли хозяев, как перчатки. Конечно, нет того размаха, что на Николиной Горе или в Барвихе, однако и здесь есть дома, поражающие воображение, и дачей их никак не назовешь…
Но дачники держались стойко. Охраняли береговую линию, боролись за пляжи — иногда побеждали, иногда проигрывали. Так было на маленьком пляже озера Разлив с вековой сосной посередине. Днем владелец, въехавший со своим домом чуть ли не в озеро, ставил незаконный забор, отгораживая пляж, а ночью дачники окрестных улиц вырывали из земли вкопанные столбы. Та локальная война закончилась победой закона — забор был снесен. Однако в целом береговая линия стала менее доступной.
Сейчас дачная культура сходит на нет: уж строить — так зимний дом, а снимать дачу на лето — верандочку с туалетом на улице — уже практически негде, да и желающих немного. И поселок Разлив, как и соседняя Тарховка, а по другой ветке — Комарово, Репино, Зеленогорск… летом становятся все менее обитаемыми.
Уходит дачная эпоха. С гамаками, старым бабушкиным самоваром, древними вещами, вывезенными когда-то из города за ненадобностью, с бурьяном у штакетника и неумело посаженной клумбой. С прогулками по лесу с корзинкой — то ли для грибов, то ли для полевых цветов. Со свободными берегами рек и озер. Пригороды медленно, но верно превращаются в «одноэтажный Петербург». И это уже совсем другая история.
2008

Война за право жить
Эту войну я веду весь последний год. Невидимые миру слезы. На карте — мамина жизнь. Врагов слишком много на одного человека, который должен выполнить свой дочерний долг. Первый враг, конечно, болезнь и старость. Второй — вся наша система здравоохранения с ее нечеловеческим лицом. Система, как известно, состоит из винтиков. И если эти винтики сделаны из некачественного материала и собраны не так, как надо, то ничего у нас с мамой не получается. А речь идет о врачах, медсестрах, чиновников от медицины и том фашистском менталитете, который сложился в нашей стране здесь и сейчас.
«Скорая» приезжает скоро, но, кажется, что лучше бы не приезжала. Они топают сапогами по ковру, они зевают нам в лицо, они пожимают плечами и откровенно хамят. «А что вы хотите? Возраст…» Я хочу, чтобы моему близкому человеку помогли. И помогли профессионально. Я сую деньги, чтобы везли в хорошую больницу. Не помогает — и везут все равно в плохую. Не оборачиваясь, врач и фельдшер идут в машину — я тащу маму буквально на себе.
Приемный покой многопрофильной городской больницы — не поддается никакому описанию. Я хочу, чтобы губернатор нашего города когда-нибудь оказался в нем, пусть даже просто на экскурсии. Не в специально отремонтированном показушном отделении, где трут полы по три раза в день — а здесь, в ночном приемном покое, где один старенький врач-пенсионер обслуживает десятки тяжелых пациентов, привозимых по скорой помощи со всего района. Лежат инсультники, кровоточат раны пострадавших — никто не бежит с каталками и бригадами, готовыми экстренно помочь, спасти, облегчить страдания. На грязных, вонючих лавках, опираясь на заплеванную стену, мы с мамой сидели два часа. Я «бегала по потолку», пока врач не посмотрел лениво и не сказал «А зачем вы ее привезли? У нас нет мест». «Я привезла? Это же „скорая“ привезла!» Это никого не интересует, «скорая» давно уехала везти следующего страдальца.
В этой больнице мама провела два месяца. После долгих разговоров и милым, интеллигентным главврачом ее действительно начали лечить. На остальных бабушек в этой палате было больно смотреть. Одна из них умерла, не дождавшись врача, за которым побежали соседки по палате… За эти два месяца в больнице маме так и не поставили правильного главного диагноза, который потом поставили на платном приеме.
И начались новые круги ада, которые у нас называются бесплатным лечением онкологических заболеваний. Миллион инстанций. Миллион справок, многочасовые очереди и блат, блат, блат… Я не буду уходить в подробности. Попавшийся на этом пути хирург от Бога — подарок судьбы. Добрая медсестра-сиделка, осуществляющая уход в больнице — живет не на свою мизерную зарплату, которую мы обеспечиваем своими отчислениями, а на вполне реальный кэш, который я плачу из своего кармана.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:


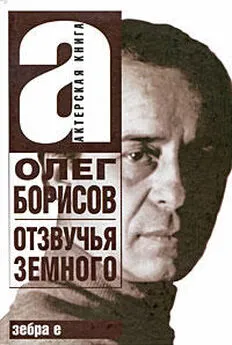
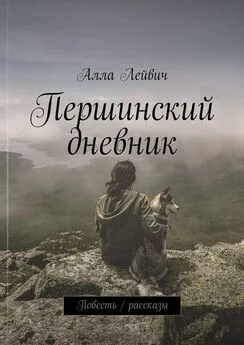
![Алла Биглова - Дневник Рейвенкловки [СИ]](/books/1092227/alla-biglova-dnevnik-rejvenklovki-si.webp)