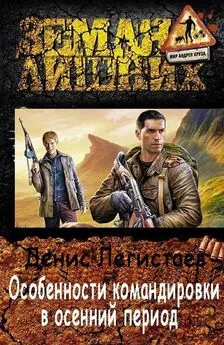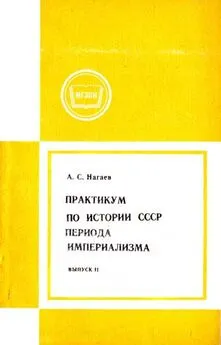Н. Денисов - Пожароопасный период
- Название:Пожароопасный период
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ПО «Исеть»
- Год:1994
- Город:Шадринск
- ISBN:5-7142-00-99-X
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Н. Денисов - Пожароопасный период краткое содержание
Впечатления деревенского детства, юности, зрелых лет, океанских дорог – Николай Денисов обошел полмира на судах торгового флота – основная тема творчества тюменского поэта и прозаика. В новую книгу вошли произведения, написанные за последние годы. В сатирической повести «Пожароопасный период», публиковавшейся в журнале «Урал», замеченной критиками и читателями, легко просматриваются картины и действо первых лет «перестройки».
Рассказы – о любви, о верности, человеческом долге, о судьбах современников – проникнуты лиризмом, теплыми чувствами.
«Ревущие сороковые» – документальное повествование об одном из морских рейсов в Южную Америку.
Пожароопасный период - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Как было прелестно, мило, настроясь на элегический лад, начинать первую страницу моей летней хроники. Как было хорошо и сладостно вглядываться поначалу в провинциальные подробности и детали, соотносить их с собственным мироощущением и настроением на ладную и спокойную жизнь с видами на яблоневый сад, на утреннее солнышко в окне, а потом с дневными поездками к «пастухам, пастушкам», к тонкому веянью полевых трав и цветов, чтоб потом по вечерам вспоминать, лелеять чуднозвучное, лежа на колючем солдатском одеяле: «Зима. Пейзанин экстазуя, реневелирует шоссе. И лошадь, снежность ренефлуя, гуарный делает эссе!». Ах, какая прелестная, странная игра словами.
Но это было: и ожидание тихого праздника, и отдохновения после долгих лет напряжения – воинской службы, штудирования книг, лекций, конспектов, что мне, человеку от сохи, доставалось непросто.
Но вот он – Городок, река, «пыльные прожилки листьев», «пейзане и пейзанки». И теперь-то я понимал, что была это привнесенная в меня книгами, разговорами сокурсников, ахами-охами московских девиц чужеродная мне блажь, что при столкновении с жизнью тотчас развеялась, улетучилась, оставив только то, что есть на земле, да еще на небе.
Я закрыл тетрадку с записями, не дочитав и страницы, посмотрел в окно. До зари оставалось часа, наверное, полтора. Августовская темень начала полегоньку редеть, выпрастывая из ночи очертания яблонь, кустов малины, прясла. Нахохленной, початой копной темнела стайка, где пропел петух.
Что чувствует человек накануне дуэли? Я читал об этом в разных книгах, но все эти книги описывали состояние дуэлянта еще тех, прошлых времен, разных там гусарских офицеров, корнетов, графов, выплевывающих под дулом пистолета черешневые косточки, выказывая тем самым равнодушие к смерти и презрение к противнику. Но это было давно – с важными, титулованными, страдающими непомерной гордостью, амбицией, или с теми, для кого дуэль – единственное средство защитить честь и человеческое достоинство.
Ах, да! Вспомнил! Доктор русской литературы – энергичный, импозантный, до мозга костей интеллигент-горожанин, вздохнул как-то на лекции: «А вот я не могу, не могу, ребята, при своей учености и соответствующих комплексах подойти к вечернему ларьку и вместе с работягами постоять за кружкой пива. Оттянув локоток, сдув пену. Не могу. Не примут, не признают, возненавидят! Или бросить подлецу перчатку и вызвать на дуэль. А так хочется иногда бросить. Не современно, а жаль».
Извини, доктор русской литературы, меня вот вынудили. И я бросил в ответ. Правда, перчатки не нашлось, обошелся мазутной шоферской голицей.
Так о чем же думается накануне дуэли?
О, графья, корнеты и кавалергарды! Бог с вами и мир праху вашему! Я просто в сей момент зверски хочу есть. Кусок бы хлеба, молочка. Чтоб вчера вечером похлебать привычных суточных щей в столовке возле базара! Так нет, забыл. Запамятовал, забегался, застирался. Конечно же, застирался: перед смертным боем должен же предстать в чистом, отглаженном виде. Носки, белье, рубашка – отглажены, как на парад.
Но кусок хлеба все же есть. Черствый, как наждачный брусок, сладкий. как хлеб. Я поднимаюсь с кровати, сажусь на подоконник, грызу корочку. В стайке опять проголосно пропел петух. Рассказывала мне Ирина Афанасьевна, что года три назад жила там корова одной из ее знакомых старушек. Домик старушки снесли, ей дали «на пятом етаже квартеру», а с коровой так и не могла расстаться. Пришла и говорит, мол, у тебя, подружка, стайка пустая, приведу-ка матушку-кормилицу поставлю, об остальном не беспокойся. И привела, и поставила. Ходила утром и вечером за две улицы с подойником. Придет, обиходит коровенку, пол даже в стайке помоет, выскоблит ножом до дресвы. Молоко, понятно, на базар выносила. А на выручку и сена и отрубей покупала. Привозили за двести рублей машину сена на зиму, сваливали на место огуречных грядок. «Да какая польза, что держишь, все доходы на корма уходят?» – «Ан нет! – отвечала старушка. – Она меня кормит, а я на кормилицу трачусь. Оба довольные».
Такие люди жили-были в Городке!
Вот о чем думаю я, глядя в блеклые утренние сумерки. А надо бы свою жизнь перебрать по косточкам. Так ли жил, что оставлю после себя? А что думать, перебирать: бегал в школу, служил, два года учился в институте, влюблялся. Когда-то мои ровесники командовали полками, дивизиями, фронтами даже. Да-а! Теперь-то как? Нас за мальчиков на побегушках держат! Ну что ж.
Вперед к барьеру!
Мне стало вдруг весело: что оставлю после себя? Уже расписался, уже умирать собрался? Ты ж навскидку бил из карабина на стрельбище по ночным мишеням при мигающей подсветке! И все же. Жаль, правда, не съездил в свою деревню – всего лишь семьдесят километров от Городка! Впрочем, я сейчас напишу домой. А что писать? Что? Тогда Тоне напишу – вот так и оставлю на столе в развернутом виде. Нет, не поднимется рука, нет таких слов, чтоб объяснить то, что ждет меня на том берегу реки на зорьке.
Накинув куртку, выхожу во двор. Прохладно. На кустах конопли возле сеней и коврике конотопа, возле ворот, зябнут крупные бисеринки росы. Скоро инеи упадут. Вот и кончается твое, Владимир Иванович Золотов, каникулярное лето. Кончается.
Из далека-далека, будто удар весла по воде, глухо донесся ружейный выстрел. Затем другой, третий. И тут же, с улицы, близкий, пронзительный в утреннем Городке – треск мотоциклов. Я глянул в щель забора: ехали охотники – при двустволках и патронташах. Да, ведь сегодня открытие осенней охоты! Это опять развеселило: легче будет и мне пробираться улочками на ту сторону реки в условленное для дуэли место.
Вернулся в дом, собрался. В кухне, погремев о ведро кружкой, как это делает Иван Захарыч, попил, снял с гвоздя под матицей потолка ружье и патронташ. В комнатке своей все же написал записку хозяевам: «Если что, простите меня великодушно!» И, как злоумышленник, вышел через окно в сад.
На условленное место я пришагал первым. Старенькие ботинки – да, так и не успел купить новые! – набухли от росы, мокрые брюки зябко липли к щиколоткам. Оглянулся на канатный мостик, по которому перебрался сюда, он еще раскачивался. В стороне, на просторной поляне, мирно порокотывал огромный желтый бульдозер – какой-то там заграничной фирмы. Я восторженно посмотрел на могущее чудище, в котором рвали гужи и копытили землю от нетерпения сотни три лошадей.
– Эй, охотник, закурить найдется? – от бульдозера бежал парень, косолапо загребая траву. «Вот еще не хватало свидетелей!» – поморщился я. Но парень был сама простота и невинность. «Здорово, я Коля Редикульцев. Не узнаешь? Меня все в Городке знают!» – хвастался он, широко и откровенно улыбаясь.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
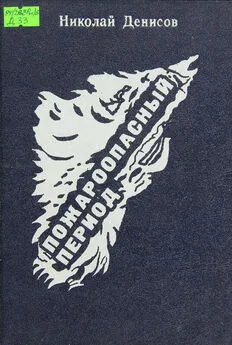


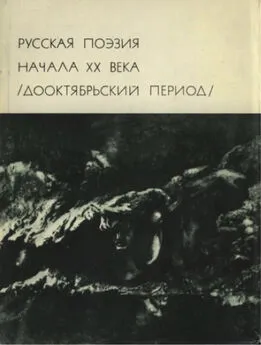



![Тим Волков - Период распада. Триумф смерти [litres]](/books/1075839/tim-volkov-period-raspada-triumf-smerti-litres.webp)
![Владимир Нагаев - Период полураспада группы «Хибина» [Том третий]](/books/1083919/vladimir-nagaev-period-poluraspada-gruppy-hibina.webp)