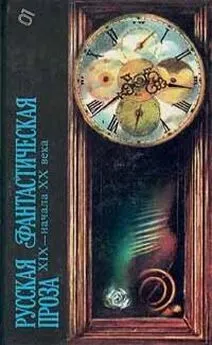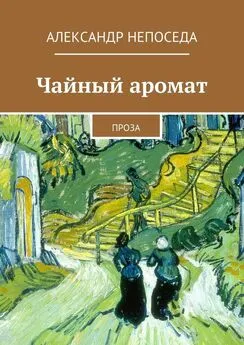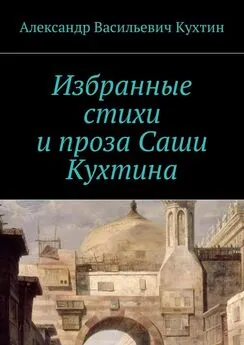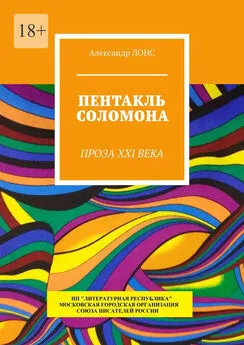Александр Морев - Коллекция: Петербургская проза (ленинградский период). 1970-е
- Название:Коллекция: Петербургская проза (ленинградский период). 1970-е
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Издательство Ивана Лимбаха
- Год:2003
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:5-89059-044-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Морев - Коллекция: Петербургская проза (ленинградский период). 1970-е краткое содержание
Вторая книга из трех под общим названием «Коллекция: Петербургская проза (ленинградский период)», посвященных 1960–1980-м годам XX века. Освобождение от «ценностей» советского общества формировало особую авторскую позицию: обращение к ценностям, репрессированным официальной культурой и в нравственной, и в эстетической сферах. В уникальных для литературы 1970-х гг. текстах отражен художественный опыт выживания в пустоте.
Автор концепции издания — Б. И. Иванов.
Коллекция: Петербургская проза (ленинградский период). 1970-е - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Настенька торопливо собралась и последней электричкой уехала в дачный поселок.
Была уже ночь.
Крупные звезды висели над станцией. За высокими, темными заборами сонно перелаивались собаки.
Настенька не стала заходить в дом, сразу прошла в запущенный сад и, сбросив плащ, встала среди деревьев.
Ночь была долгой и сладкой.
Шершавая кора медленно охватывала ее. Томительно набухали на ветвях почки.
Еще помня себя, Настенька хотела переступить, чтобы встать ближе к дому, но ноги уже не слушались — навечно срослись они с землей.
Родители долго искали Настеньку, но ни милиция, ни всесоюзный розыск ничем не смогли помочь.
Им оставалось теперь только стареть в горьковатой тишине запущенного сада.
А скоро Настенькиного отца — он был крупным начальником — перевели в другой город, и он продал дачу.
Продал Авдюхину, тому самому молодому человеку, в которого так больно была влюблена Настенька.
Авдюхин за эти годы сильно изменился: пополнел, полысел, сделался очень хозяйственным. Он долго бродил по саду и прикидывал, что вот здесь у него будет клубника, здесь — огурцы… Авдюхин тяжело вздыхал — сад был старым, запущенным, и требовалось расчищать его.
Долго Авдюхин стоял перед Настенькой и все не мог понять: какое это дерево? Потом махнул рукой и решил, что надо срубить его.
Дерево срубили, но тень от его ветвей осталась на земле, и в этой тени не росли ни огурцы, ни клубника.
А скоро Авдюхина вызвали в школу. Оказалось, что его сын-первоклассник объявил, что хочет быть озером.
— Оно такое ясное, светлое… — говорил он и плакал.
Авдюхин выдрал сына ремнем.
1976
Страх
Цыганка сказала — он бояться не должен…
Таким и ро́стили.
Он и не боялся ничего. Не боялся темных комнат, не боялся один ходить в лес. Огня не боялся. Воды. Не боялся рассказов детских, жутких, где умирает у девочки мать, умирает отец и зовет пятерых подружек девочка, а из пола торчат пять пальцев. И уходит одна подружка — и только четыре пальца, и уходит другая — и три… А когда уходит последняя, нет больше пальцев, только на полу словно бы кровь запеклась.
Нет! Не боялся и, как девочка эта, сам бы спустился в подполье и пошел бы искать разгадку странному, будоражащему кровь страху. Не боялся…
И снова приходила цыганка. Сидела на кухне — морщинистая, пронзительноокая. Только взглянула на него, засмеялась, застучала клюкой по полу, погрозила пальцем, темным, корявым.
— Испугаешься! — сказала.
— Нет! — ответил он и прошел мимо. Руки засунул в карманы, засвистел под окнами.
Жизнь потом прожил долгую, детей вырастил.
Однажды в раскрытую дверь услышал, как рассказывает дочка своей подружке про девочку, как замирает от страха тоненький голосок… Усмехнулся, снова вспомнил цыганку, задумался.
Над диваном, где он спал, обои треснули. Стена внизу была обклеена плакатами, картинками разными, и ползла в прореху рука — корявая, страшная.
Какие-то кресты виднелись вдалеке, пошатнувшаяся ограда…
Дом садился, прореха становилась все больше. Рука тянулась к нему, с каждым днем — все ближе.
Жизнь прожил большую, правильно жил, детей вырастил, дело работал и ничего не боялся — только рука вот тянулась к нему.
Часто думал перед сном: переклеить надо обои, но забывал — дела, все дела… Ночью снова руку видел, снова думал: «Да, надо, надо заклеить»… Лежал с открытыми глазами, уже не про обои думал, о другом.
Жизнь правильную прожил.
Иногда открывал старую, в потемневшей обложке книгу. Читал. Странно становилось, словно про него это написано. Снова ночью лежал с открытыми глазами — рука все ближе к нему была… Но не страшно было.
Дом над рекой стоял. На берегу заросли — ивы, ольха… Летом там соловьи пели.
Смотрел на руку, усмехался. Во сне снова цыганку видел, смотрела на него — глаза кровавые, в узловатой руке клюка, стучится на него, грозится.
И снова дела, снова заботы, а вечером опять старая, в потемневшей обложке книга.
Что ж… Правильно жил, правильно.
Ночью опять цыганка приходила, смотрела налитыми кровью глазами. Он руки хотел в карманы засунуть, пройти, засвистеть, как тогда, под окнами.
Проснулся.
— Праведник ты, что ли?! — успела ему вслед цыганка крикнуть. — Все! Все во грехе вываляны!
Лежал в кровати, только сердце в груди подпрыгивало.
«Праведник ты, что ли?» — словно эхо, расслышал голос из сна, и жутко вдруг стало, а рука… Рука рядом уже… Выдохнул воздух, а вдыхать-то и нечего.
Словно схватила рука за грудь, лицо все перепуталось, побежали глаза куда-то…
Еще успел расслышать хрипловатый цыганкин смех — умер…
Врачи сказали потом — разрыв сердца.
Жизнь прожил долгую, до конца дело работал, умер, похоронили. На кладбище тумбочку со звездой поставили.
Вечерами приходила на могилу цыганка.
Плакала…
1977
Юрий Шигашов
Дураки
Их было четверо. В маленьком поселке.
Правда, этот поселок получил уже название города (сначала городка, а затем уже города с десятком тысяч населения). Город… с двумя заводами, артелями, пианинной фабрикой…
А их было четверо. И их знало почти все население — по крайней мере те, кто жил здесь более года.
К ним привыкли… как привыкают к речке, протекающей среди городских улиц, или к оврагу, или к горе, т. е. как привыкаешь к тому, что для жителей (тем более если их немного) становится обычным и лишь людям впервые прибывшим сюда бросается в глаза.
У этого поселка (да простят меня, отныне я буду называть его первоначальным именем) была своя предыстория — в поселке были свои юродивые: женщины, и старики, и даже дети, и их все знали, их любили богомольные поселковые бабы; мальчишки их именами давали прозвище друг другу, и боялись их, и дразнили…
Они жили, попрошайничая, переходя от дома к дому, от барака к бараку, казалось, что по договоренности они сидели у входа в хлебный магазин или на базарной площади, в основном нищие. Да и они постепенно ушли в село. Поселковый житель менялся, хоть и жил еще по-деревенски, но уже называл себя городским… А для городских жителей подать милостыню считается пошлым и безнравственным. Подталкивая нищих, они говорили: «Иди-иди, Бог подаст!..» В общем, нищие и дураки постепенно куда-то пропали, и их становилось все меньше и меньше, и время менялось, и вначале непонятная обязанность (им дали обязанность перед обществом: «Кто не работает, тот не ест» — она захватила дураков, и они ушли в села, или поднялись они над своей дуростью и пошли по мере сил помогать государству) заставила их работать и из дураков превращаться в недураков.
Да тут была и другая причина… До революции это был глухой полустанок с обходчиком-чувашем и ремонтной бригадой из краснощеких деревенских баб. Они в двадцать девятом году выстроили первую заводскую трубу и первые приземистые бараки, притом в низине, среди тонкого леса, среди заброшенного кем-то (то ли чувашами, то ли русскими) села или деревни, выстроили маленький поселок, и мужики, разбуженные тогдашней, непонятной для многих суетой, надвигающимися переменами и, как им казалось, развалом, мужики (кому была причина уйти из деревни) на скрипучих телегах, со всем хозяйством, вмещая жен и детей, — потянулись к этой шестидесятиметровой кирпичной трубе, а прибыв, наскоро положив свой скарб к ее основанию, шли к десятникам и сразу же включались в работу.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: