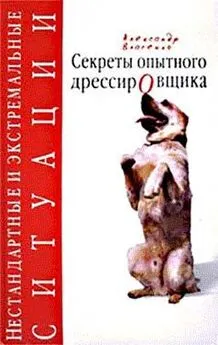Александр Ливанов - Доверие сомнениям
- Название:Доверие сомнениям
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2022
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Ливанов - Доверие сомнениям краткое содержание
Доверие сомнениям - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Вроде бы не знал нужды писатель, даже в самые кризисные для творчества годы он зарабатывал подчас по две тысячи долларов в неделю в Голливуде… И все же – душевная болезнь жены, нескончаемы нервные расстройства, «запои», инфаркт, наконец… И все вроде бы не столько из творческих, сколько из бытовых неудач!
И вот, начинаешь понемногу понимать причину истинного безумия этого «безумного мира», имя которому: Америка! Благополучия самого по себе там нет, оно всегда относительное, всегда требуется иметь больше, чем имеешь, всегда человек ставится перед необходимостью изнурять себя, надрывать физические и духовные силы в неостановном «делании денег»! Общество, его уклад, его мораль – все, как бич, всех стегает, гонит в этом марафоне успеха. Остановиться невозможно! Поистине – «безумный, безумный, безумный мир!». И если воспитание, если склонности и привычки – останутся все теми же, буржуазными, здесь и талант не спасение, он затягивается на коммерцийный круг жизни, и еще скорее губит человека! Такова подоплека мишурно-бутафорного рая на земле: Америки. Такова по существу ее липовая романтичная реальность. Фицджеральд видел разительные противоречия в американском образе жизни, писал об этом, но так и не успел прийти к понимаю его – неестественным. Подчас он называл себя – «марксистом». Разумеется, дело даже не в том, сколько прочел и освоил писатель из Маркса. Главное, думается, в том, что он, при всем незаурядном даре своем, все же был очень далек от тех, кто создает все блага жизни, кто в этом процессе и дальше всех уходит в самом понимании жизни и ее сложных основ, был далек от человека труда и его миропонимания. То, что давало ясность мысли, нравственную опору всегда оберегало от духовной драмы Сент-Экзюпери и довольно часто Хемингуэя, того, к сожалению, не было в Фицджеральде.
«В конце концов, есть своя истинная значимость в любом отдельно взятом миге бытия; при свете последующих событий эта значимость может показаться сомнительной, и все-таки она сохраняется, пока длится самый миг. Юный принц в бархатном камзоле, играющий с королевой в ее прекрасных покоях среди скрадывающих шум дорогих занавесей, со временем может превратиться в Педро Свирепого или в Чарлза Безумного, но момент красоты остается».
Уже одна эта метафора – как она нам напоминает Александра Грина! – ее смысл, вплоть до стилистики, говорит нам о такой мечтательной зыбкости, душевной иллюзорности и материальной ирреальности самого мироощущения художника. И как от слова Александра Грина – мы внезапно охвачены грустью от человеческой и творческой судьбы!
«Юный принц в бархатном камзоле», веря только в «момент красоты», так и не решился откинуть дорогую занавесь, увидеть явь дня, внять шуму его, а заодно увидеть, что при дневном свете «королева в прекрасных покоях» просто стара и безобразна. И, стало быть, все было обманом и самообманом – и «момент красоты» был такой же иллюзией, как вся жизнь…
Пошлость
«Пошлость – это мелочность. У пошлости одна мысль о себе, потому что она глупа и узка и ничего, кроме себя, не видит и не понимает. Пошлость себялюбива и самолюбива во всех формах; у нее бывает и гонор, и фанаберия, и чванство, но нет ни гордости, ни смелости и вообще ничего благородного. У пошлости нет доброты, нет идеальных стремлений, нет искусства, нет бога. Пошлость бесформенна, бесцветна, неуловима. Это мутный жизненный осадок во всякой среде, почти во всяком человеке. Поэт чувствует всю ужасную тягость от безысходной пошлости в окружающем и в самом себе. И вот он объективирует эту пошлость, придает плоть и кровь своей мысли и сердечной боли».
Эти слова вполне достойны, чтобы быть помещенными – в статье «пошлость» – в любом толковом словаре. «Пошлость – это мелочность», сказано выше, но от этой ее мелочности огромен, безмерен урон для духа жизни, для серьезного чувства ее духовной основы! От пошлости не отмахнуться тем, что назвать ее по имени. Словно пыль, она проникает сквозь все щели человеческого общежития, пропитывает собой все вокруг, затрудняя дыхание, создавая уют и благоприятство разве что для одной моли. Пошлость – оружие мещанства, чтобы все измельчить, вышутить, унизить, чтобы ничему и никому не дать ни в чем стать выше собственного – мещанского – уровня! Мещанин ухватист и расчетлив в своей выгоде, но ему на руку создавать нравственно сниженную атмосферу безответственности, бессовестности – бездуховности. Это и означает – «опошлить»! Труд и дар, принципиальность и честность, призвание и совестливость – все-все пошлость спешит опошлить. Она «глупа и узка», – читаем мы выше, – но как она сатанински хитра и изворотлива! От нее и умному деваться некуда, она напориста, хотя ступает на вкрадчивых лохматых лапах беспечности и улыбчивой приязненности – хоть беги от ее обволакивающей свойскости, веселой беззаботности, ухмыльчатой шутливости. У пошлости, читаем мы выше, «нет ни гордости, ни смелости и вообще ничего благородного»… Да и зачем они ей? Она и без этого всего добьется, чего ей требуется…
Синоним пошлости – мещанин! Когда, он не поставлен в необходимость быть агрессивным – его излюбленное оружие именно пошлость. Он знает множество масок для нее – от маски доброго малого до маски беспечного и рассеянного, незлобивого равнодушия. В выгоде – его идеалы, его искусство, его – бог!
А вот, что главное, пожалуй, в приведенной выписке. Что пошлость (читай – мещанин и мещанство) – не нрав, не характер, не форма поведения: для иных она – форма существования! Чаще всего паразитичная. Вот почему обращают на себя внимание слова о том, что пошлость – «это мутный жизненный осадок во всякой среде, почти во всяком человеке»! Иными словами – нужна постоянная отмобилизованность душевная, чтоб противостоять пошлости. Прежде всего – в себе. Если хочешь быть достойным человеком и достойно делать свое дело. И что совсем замечательно, – едва заговорив о пошлости, этой питательной среде мещанина и мещанства, автор неизбежно и сразу же вспоминает поэзию – как о самом радикальном средстве противостояния!.. (Знать, не спасение – если и поэзия впала в пошлость!).
Поистине – без поэзии, без труда и творчества сатана нетворчества, все эгоистичное и корыстное, точно тина, засосали бы все живое. Поэт – по рождению, по призванию, по осуществлению своего призвания – изначальный борец против всего мещанского и пошлого в жизни. Пушкин это называл – «чернью». И вряд ли стоит настаивать на том, что имел он ввиду здесь одну лишь светскую знать! По всей России, концентрическими кругами, вся чернь, все нетрудовое, от Бенкендорфа до последнего сельского жандарма, «жадною толпою» теснилось, окружало трон. Трон и царь им нужны были – равно как они сами нужны были царю и трону. Пошлость прикрывалась властью – формой, законом, порядком – службой, не ведающей созидания и труда. Но, увы, пошлость и мещанство не унимаются и после низвержения царей и тронов, видать, все демократические установления их лишь изощряют, множат, рождают новые популяции, устремляя жизнь – к эпидемии…
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: