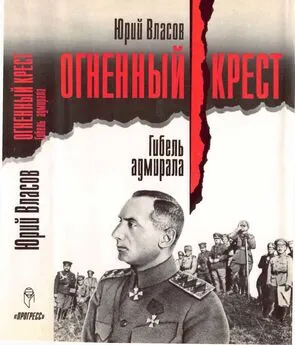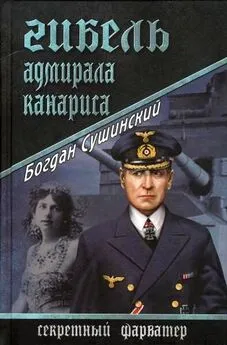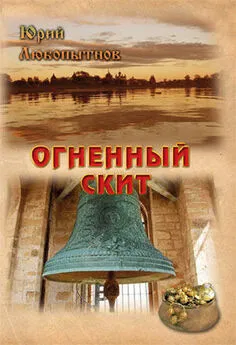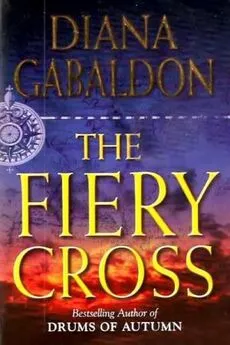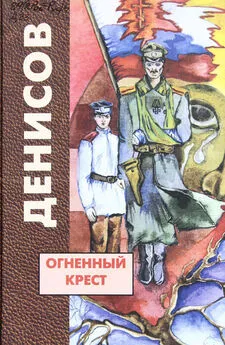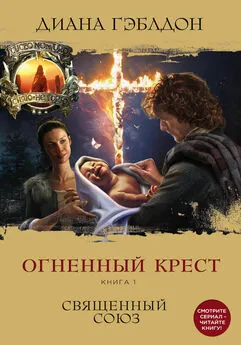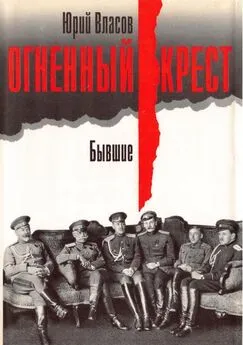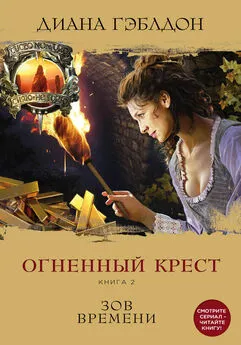Юрий Власов - Огненный крест. Гибель адмирала
- Название:Огненный крест. Гибель адмирала
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:«Прогресс», «Культура»
- Год:1993
- ISBN:5-01-003925-7, 5-01-003927-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Юрий Власов - Огненный крест. Гибель адмирала краткое содержание
Являясь самостоятельным художественно-публицистическим произведением, данная книга развивает сюжеты вышедшей ранее книги Ю. П. Власова «Огненный Крест. «Женевский» счет».
Огненный крест. Гибель адмирала - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
В 1874 г. Ткачев опубликовал «Открытое письмо Фридриху Энгельсу». Он упрекал его в незнании России. Ткачев защищал свою теорию захвата власти: «Нужно только разбудить одновременно во многих местах накопленное чувство озлобления и недовольства… всегда кипящее в груди нашего народа…»
Раскачивать народ, возбуждать недовольство и ненависть, играть на любых трагических обстоятельствах, а когда вдруг сложится «благоприятная» обстановка (война с ее бедствиями или, скажем, длительные неурожаи, эпидемии, национальная рознь), свалить старую власть и уже распоряжаться народом…
В ответе Энгельса были примечательные слова: «Дозволительно ли человеку, пережившему двенадцатилетний возраст, иметь до такой степени ребяческое представление о ходе революции?»
Спешил Энгельс. Минует время, и этому «ребячеству» припишут гениальность, прозорливость, пророчество…
В общем, это было первое столкновение между марксистом и якобинцем — предмет разногласий: судьба русской революции.
А что революция стояла на пороге, сомнений не было. Крепостничество, порочная земельная реформа, всевластие царской бюрократии и самого царя служили почвой для постоянно тлевшего недовольства. Словом, для «раскачивания» имелись все условия. Вопрос — как «качать».
Вот тут и ломали копья теоретики разного рода кружков, организаций и партий.
Так или иначе, почти все претендовали на прозвание марксистских. Представители разных слоев общества толковали его на свой лад; так сказать, выкраивали из марксизма все нужное для себя. Безусловно, в эти приспособления марксизма под свои нужды (их называли только «революционными», «общим благом») вносили свое, личное, что давало дополнительную игру мысли.
Плеханов в своих работах доказал, что Россия не может избежать европейского капиталистического пути развития (это ход истории, в котором пожелания славянофилов ничего изменить не могут). В этом он видел свои достоинства: Россия может извлечь уроки из истории Европы и шагать вперед более решительно — и экономически, и политически осмысленней. Плеханов резко критиковал «мечты» о захвате власти (ткачевская утопия) и о совпадении ближайшей русской революции с социалистической (окажется ленинской утопией).
Владимир Ильич при таком уважении к «величественным» замыслам Ткачева не мог не заняться их приспособлением к догмам социал-демократии, разумеется большевистской. Все прочие социал-демократии для Ленина были в омерзение.
Чего стоит одно лишь ленинское «Письмо к товарищу о наших организационных задачах»:
«Наладить, сорганизовать дело быстрой и правильной передачи литературы, листков, прокламаций и проч.; приучить к этому целую сеть агентов, это значит сделать большую половину дела по подготовке в будущем демонстраций или восстания…»
Это ж почти дословное повторение «величественного» плана Ткачева. Основа та же — конспиративная организация. Пусть в России хоть в тысячи раз отсталый капитализм, пусть его вообще нет, пусть пролетариат едва нарождается, пусть всеобщая неграмотность и некультурность… — какая разница! Есть конспиративная организация — партия! И уж к ней-то все приложится.
Только захват власти! И готовиться к нему через сеть своих сторонников — членов партии, построенной по централистскому образцу. Именно поэтому Ленин и схватился так по пункту устава партии на II съезде РСДРП в 1903 г. (с того и пошло: большевики и меньшевики), кого считать членом партии. Помните его споры с Мартовым, Плехановым?.. Для Ленина, всегда державшего на задках памяти всю эту «машинерию» Ткачева, партия должна быть как «один сжатый кулак». Тут вопрос о характере членства имел принципиальное значение, от него прямым образом зависела… революция, то есть захват власти.
Отсюда и понятно следующее утверждение Ленина:
«Якобинец, неразрывно связанный с организацией пролетариата, сознавшего свои классовые интересы, это и есть революционный социал-демократ («Шаг вперед; два шага назад»).
Насчет осознания пролетариатом своих классовых интересов Ленин грешит. Ибо основной принцип его (он его не раз назовет) — это вести класс не спрашивая, так как из-за политической и культурной отсталости и неграмотности он (класс) не способен сознавать свои интересы и цели. Тут основа ленинизма как откровенно авантюристического, утопического, заговорщического течения в русской социал-демократии, которая только тем и занималась, что «онаучивала» этот предмет (захват власти). В данном пункте заранее были обречены на поражение и Николай Романов, и Колчак, и Деникин, все-все, особенно верящие в Бога… Тут священнодействовали профессионалы. Целью их жизни было освоение подходов к захвату власти, тут знания накапливались фундаментальные.
А тут какой-то российский адмирал! Эх, Александр Васильевич…
Именно здесь, в данном пункте, начало расхождения Ленина и Плеханова.
Именно потому виднейший социал-демократ (всю жизнь воевал с властью), меньшевик Александр Мартынов (Пиккер), писал в 1918 г.:
«Сейчас, когда я пишу эти строки, жизнь в кровавом тумане Гражданской войны решает тот спор, который я вел с Лениным 13 лет тому назад, ибо то, чего я тогда опасался, теперь осуществилось: «слепая игра революционной стихии» дала наконец возможность Ленину захватить власть и проделать над Россией опыт «диктатуры пролетариата». Опыт этот еще не закончен, тем не менее уже сейчас ясно видно, куда он влечет страну и революцию…» [27] Мартынов. А. Две диктатуры. «Книга», 1918, с. 92 (у меня второе издание, как раз вышедшее в 1918 г.).
Мы-то знаем, чем обернулась на деле диктатура пролетариата — террором кучки людей, действовавших от имени полузадавленного пролетариата.
Остается надеяться, что народ извлечет уроки из этой истории, ухватить которую столь трудно по причине ее чрезвычайной скользкости от крови.
Вот что значит сознавать себя и свою миссию в истории.
«…Но убеждать недостаточно. Политика, боящаяся насилия, не является ни устойчивой, ни жизненной, ни понятной»(выделено мною. — Ю. В.). Помните Владимира Ильича?..
Возразите: помилуй Бог, а ничего и не было, кроме насилия! Все так…
Совершенно естественно, обо всем этом адмирал Колчак не имел ни малейшего представления, ибо никогда не ставил целью жизни захват власти и обращение народа в новую веру.
Брили Александра Васильевича в три дня раз. В камеру вдвигалось нечто зыбкое, очень громоздкое и сопящее — это входил брадобрей: человек в пальто, похожем на сутану, и в кавказской барашковой шапке. Он никогда не здоровался. Александр Васильевич даже не знает, какой у него голос. Посреди камеры водружался табурет. Александр Васильевич садился. Двое охранников притискивались с боков. Брадобрей, отдуваясь, взбивал мыльную пену в чашке без ручки и с широкой черной трещиной по выпуклому боку. В груди у брадобрея что-то булькало, присвистывало, а в животе — переливалось, урчало и вроде бы даже шкворчало человеческими голосами. Тугое сало живота мяло Александра Васильевича, и это было неприятно до тошноты. К тому же руки у брадобрея отдавали луком и дешевым банным мылом.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: