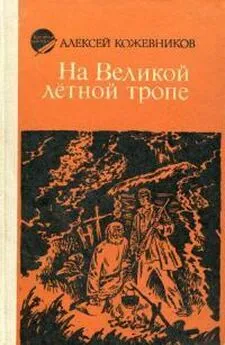Алексей Кожевников - На Великой лётной тропе
- Название:На Великой лётной тропе
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Башкирское книжное издательство
- Год:1987
- Город:Уфа
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Алексей Кожевников - На Великой лётной тропе краткое содержание
В романе «На Великой лётной тропе» рассказывается о людях заводского Урала в период между двумя революциями — 1905 и 1917 годов, автор показывает неукротимый бунтарский дух и свободолюбие уральских рабочих.
На Великой лётной тропе - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Признание самого Алексея Венедиктовича помогает нам заглянуть в его творческую лабораторию, выяснить мотивы появления на свет тех или иных произведений раннего периода — важного и значительного в становлении личности самобытного советского писателя.
«Мне охотно давали поручения многие органы печати, — вспоминает он. — Публиковали, правда, далеко не все, что приносил, но, отвергнув одно, тут же просили другое. Поощряемый этим доверием, а иногда и небольшими командировочными, я рьяно пустился в путешествия, и в первую очередь по Уралу.
С годами Урал раскрылся, распахнулся, как золотой, златорудный пояс, перехвативший мою Родину от Северного Ледовитого океана до казахских степей. Но вернее считать, что там кончаются, исчезают только горные высоты, а как рудное месторождение Урал невидимо, подземно тянется через всю ширь этих степей до границ Ирана. И к трем Уралам — Северному, Среднему и Южному — законно прибавить четвертый — Урал Степной, Подземный» {3} 3 Там же, с. 9.
.
Впечатления тех лет отражены уже в первом рассказе А. Кожевникова «Конь Башкир» (1924), напечатанном в журнале «Пролетарий связи», а также в сборнике рассказов писателя «Мамка будет искать», изданном в Свердловске в 1925 году. Забота о воспитании беспризорных детей в сознательных строителей жизни показана автором с правдивой болью в популярном рассказе «Жиган» и в таких книгах, как «Вокзальники» и «Шпана», появившихся в московском издательстве в том же году.
Это был оперативный отклик писателя на злободневную и важнейшую жизненную проблему, вставшую во весь рост перед нашей страной в первые годы Советской власти. Благородному делу спасения и воспитания беспризорных детей отдали теплоту своих сердец, родительскую заботу и художественный талант многие писатели того времени. В их произведениях многогранно и ярко отражена забота молодой Советской власти о воспитании детей. Такие произведения, как повести и пьесы «Правонарушители» и «Егоркина жизнь» Лидии Сейфуллиной, «Трудовая артель» и «Школа на маяке» Валериана Правдухина, вошли в золотой фонд пролетарской литературы.
Обращаясь к событиям тридцатых годов, мы обычно вспоминаем яркие произведения М. Шолохова, Л. Леонова, В. Катаева. Это справедливо. Но для того чтобы шире представить и глубже понять пережитое тогда советским народом, следует также прочитать или перечитать романы и повести Ю. Крымова, В. Гроссмана, П. Петрова, А. Малышкина, А. Кожевникова… {4} 4 См. Николай Яновский. Певец Сибири. К 90-летию со дня рождения Алексея Кожевникова. — Литературная Россия, 20 марта 1981 года, № 12, с. 9.
Последним, в частности, были созданы на уральском материале такие произведения, как «Турмалин-камень», «Золотая голытьба», «Парень с большим именем» и другие.
Первые книги А. Кожевникова не прошли бесследно, они сыграли огромную воспитательную роль, помогли автору лучше понять себя, раскрыться как художнику. Доказательством этому служат письма тех, чьих хрупких плеч на первых жизненных шагах коснулись заботливые руки писателя-пестуна. Вот одно из таких, наиболее характерных и исповедальных писем, полное неподдельной признательности и благодарности подростка, твердо вставшего на ноги:
«Дорогой товарищ Кожевников, ты, пожалуй, не догадываешься, кто тебе пишет. А пишет Крылов, который у тебя спер сто рублей, а вместо их оставил маску. Теперь мне 19 лет. Я работаю на заводе токарем пятого разряда. Спасибо тебе, товарищ Кожевников, за то, что ты вытащил меня из беспризорности…»
Много было пережито в те годы, полные трудностей и исканий, но Алексей Венедиктович вспоминает о них с нескрываемой гордостью, сознавая, что подросткам, которых опекал, помог стать подлинными строителями новой жизни. Нелегко было тогда. Сам воспитатель приемника получал грошовую плату за беспокойный, но благородный труд, ходил в лаптях, к которым привык в вятской деревне, и лишь иногда горевал: лапти быстро изнашивались на московских мостовых.
Ненасытный путешественник, А. Кожевников много и без устали ездил, любил природу, восторгался ее красотой, тонко живописал в книгах. Над рукописями он «сиживал подолгу», многократно переписывал, искал точного слова, каждую строку выверял на слух и как художник был прежде всего строг к самому себе.
Жизнь не баловала А. Кожевникова смолоду, не была милостива и в зрелые годы. После тяжкой болезни, едва не отнявшей жизнь, он еще сильнее был захвачен творческим трудом, с ненасытной жадностью писал новые произведения, переписывал заново старые, свято чтя писательский труд. Долг пестуна в самом широком смысле этого слова обязывал к величайшей ответственности его как художника слова. Не об этом ли письмо уральцу Виктору Савину, пронизанное единой мыслью и целью о писательском призвании и заботе о читателе:
«Ты говоришь, что я скупо написал о себе. Видишь ли, писать подробно немыслимо. Ведь письма литератора в его книгах. Разве возможно в письмах пересказать подробно книги? Пишу роман о хлебе, мечтаю написать еще про Енисей, дорабатываю одну повестушку о войне. Мне надо еще целую жизнь, а она у меня почти прошла. И скорее всего многое останется в черновиках и записных книжках. Тоже не весело. Я теперь берегу каждый день и час, вот почему живу в Доме творчества. Это — как затвор для монаха. Даже общение с семьей свел до минимума. Все — большие, пусть живут, как хотят. Умирать, не доделав самое главное, обидно и, пожалуй, преступно, если не сделал из-за себя.
И переписку с друзьями я свел до минимума, до предельной краткости. Хочу максимум души и сил отдать работе.
Не удивляйся на такую мою «скупость». Это естественно для человека, который умирал, как было со мной летом 57 года. Эта «скупость» необходима, чтобы повернуться щедростью в работе…» {5} 5 Эта цитата, как и предыдущая, приведена из рукописных и машинописных материалов, хранящихся в семейном архиве А. В. Кожевникова, с которым около сорока лет поддерживал дружеские связи один из авторов предисловия — Александр Андреевич Шмаков.
Виктор Савин — однокашник А. Кожевникова по Литературно-художественному институту имени В. Я. Брюсова — любовно называл Алексея Венедиктовича «уралосибиряком» и, поясняя необычное словообразование, добавлял:
«Отчая-то родина у него Предуралье, а Сибирь только творческая половина биографии. И выходит — был он «уралосибиряком». Мы начали с ним писать об одном и почти в одно время, что тогда волновало — о беспризорничестве. У него вышли «Вокзальники» и «Шпана», у меня «Шарамыжники» и немного позже — «Дружки с рабочей окраины». Только крылья у нас были разные. У Алексея — орлиные, поднявшие его на заслуженную высоту, а у меня — ленью подрезанные: не умел трудиться, как он. За это получал нахлобучки при встречах и письмах…» {6} 6 Там же.
Интервал:
Закладка: