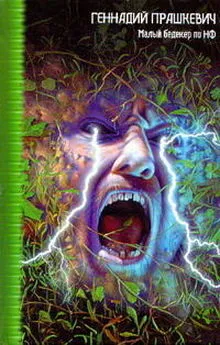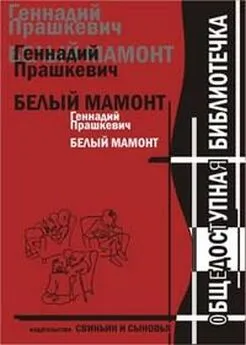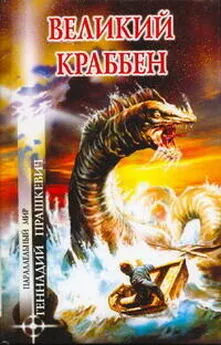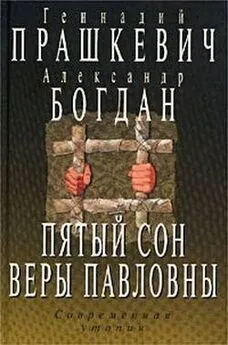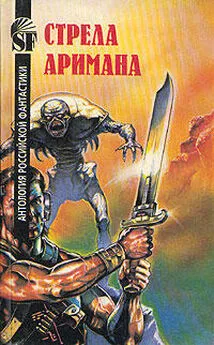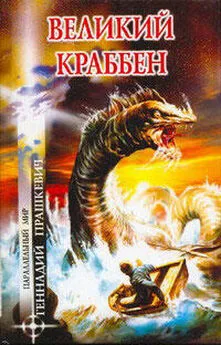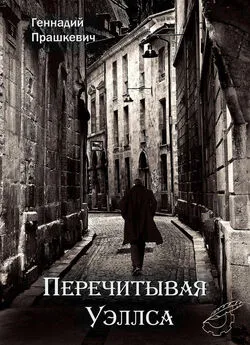Геннадий Прашкевич - Гуманная педагогика [из жизни птеродактилей]
- Название:Гуманная педагогика [из жизни птеродактилей]
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2020
- Город:Новосибирск
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Геннадий Прашкевич - Гуманная педагогика [из жизни птеродактилей] краткое содержание
или
? Не торопись. Если в горящих лесах Перми не умер, если на выметенном ветрами стеклянном льду Байкала не замерз, если выжил в бесконечном пыльном Китае, принимай все как должно. Придет время, твою мать, и вселенский коммунизм, как зеленые ветви, тепло обовьет сердца всех людей, всю нашу Северную страну, всю нашу планету. Огромное теплое чудесное дерево, живое — на зависть».
Гуманная педагогика [из жизни птеродактилей] - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Если спят, то нагонят не скоро.
Часа через два-три выйду к брошенному поселку.
Вдруг повезет, вдруг в поселке ночуют какие-никакие отпетые грибники?
Вот и шел по старой сухой грунтовке. Слева и справа тяжелые кедры сливались в одну стену. Нежный запах смолы. Рытвины. Трава на обочинах.
Хорошо, что фирстовский кобель (Кербер) не вернулся на заимку.
Впрочем, зачем Керберу возвращаться? Все при нем, даже его конура.
Раннее теплое сонное утро. Рабы спят, девки спят. Спит строгий карлик-горбун, спит тихая добрая Вера Ивановна. «Все равно я скоро умру». Спят мохнатые кедры, шишек в этом году не оберешься, на всех хватит. Спит Астерия — маленькая дочь древних титанов. Спят Бриседида и Венилия — маленькие царицы, пусть приснятся им кембрийские моря, набитые страшными мерцающими трилобитами. Провалились в теплый сон, как в пуховую перину, Галантила с дылдой Дидоной, и маленькая Елена спит, тортик-девочка, и Зоя, Кружевная Душа; спит даже печальница Ио с голосом тупой и рябой кукушки.
Радаманта спит.
И рыжая Лисидика.
И холодная Соня, конечно.
Тоже мне, придумала: «Отдайте его рабам!»
Вот и приходится бежать, а ведь здесь, говорят, рыси водятся.
От рысей (если нападут) голыми руками не отобьешься. Это я знал. Правда, утешало: зачем рысям Лёвина шкура? Это девкам она вдруг понадобилась. И вообще, с чего я взял, что на заимке карлика-горбуна появлению давно надоевшего всем школьного учителя якобы обрадуются?
Встретить вилами — это да! А приютить…
Но жила, все равно жила в глубине души какая-то надежда.
Вдруг они там, в избе, одумались, спохватились. Через час нагонят, обнимут, пустят слезу: «Лев Георгиевич, ну чего вы? Не обижайтесь, мы так шутим! Будьте нашим гостем!» Но чем светлее становилось в лесу, чем яснее выступали слева и справа от дороги ели и кедры, тем призрачнее становилась моя надежда.
«Почему люди сперва влюбляются, а потом тихо плачут?»
И правда, почему? Даже древний грек Платон не знал на это ответа.
Вся человеческая философия — сплошные догадки. Ничего, кроме догадок.
Вон как мощно и нежно лапы столетних елей касаются сухой земли, покрывают ее зеленым навесом, хоть живи под ним. Только с кем жить под этими лапами, от кого прятаться? Сюда нормальные люди не ходят. Раб Петр не случайно тряс кудлатой головой, намекал, что вот, дескать, было однажды, парни с Пихтача приходили бить Платона, теперь живут по городскому лечебнику. Сам Платон в тот день был чем-то занят, вот и гоняли незваных гостей девки.
И Соня с ними, наверное.
Ну их всех к черту, решил я.
Уеду на Сахалин. Теперь точно уеду.
На острове — метели, вокруг острова — море.
Займусь самообразованием. Куплю телескоп, займусь наблюдениями звездного неба. Иногда любители открывают новые кометы. Если и мне так повезет, назову ее именем…
Ладно, это потом.
Иногда я вроде слышал чьи-то шаги.
Да нет, конечно, не было на дороге никого, кроме меня.
Никто тут не мог меня преследовать. Девки фирстовские, их рабы и их Кербер давно распугали тут все живое, даже хищные рыси, наверное, живут по городскому лечебнику.
Останавливался.
Прислушивался к тишине.
Потом ускорял шаг. Понимал, что надо попасть в поселок.
Конечно, поселок этот давно заброшен, пуст, но ведь забредают в него грибники и ягодники. Такое они бродячее племя. Да и шишкари, может, вышли на разведку. Они парни крепкие, им деревянной колотушкой приходится махать, обивать кедры, работа нелегкая. Если выйду на шишкарей, они меня в рабство не отдадут, им самим нужны рабочие руки…
Тьфу на вас всех!
Вдруг (пугался) вся свора фирстовских девок с воплями и с визгом, как сама судьба, как таежный греческий хор, выкатится на дорогу с палками и с железными вилами в загорелых руках?
«Если убежишь, — вспомнил я просьбу (или совет) тихой Веры Ивановны. — Если убежишь, пришли нам конфеты «Ласточка». — Кажется, Вера Ивановна единственная на фирстовской заимке думала обо мне по-человечески. — Только много не присылай. Все равно я скоро умру».
Пришлю ей большую коробку…
Именно ей пришлю. Не Соньке, овце и дуре.
Хруст.
Шорох.
Опять хруст.
Вдруг это Кербер?
Хотя вряд ли. Кербер — пес самостоятельный.
Я еще на пути к заимке с этим псом разговаривал, правда, имени его не знал, обращался к нему: «Эй!» Вот он и скалил клыки. Не скажу, чтобы насмешливо, скорее злобно, но что-то до Кербера доходило, подозревал, наверное, что под горячую руку обозвать могу Колчаком, а это обидно, псы мир чувствуют сильнее людей. Соня — простая девушка, сказал я Керберу по дороге к заимке, а ты (сердился) просто самец-неудачник, мотаешься по тайге с конурой.
Злился на Кербера.
А он скалил клыки: дурак ты, Лев Пушкарёв, если девку с такими крепкими зубами считаешь натурой сложной. Она спать здоров а . Такую ни весенней, ни осенней простудой не проймешь. А ты, Пушкарёв, никакой не лев. Ты сложных чувств ищешь, а Сонька — самая обыкновенная девка. Ну хорошенькая, согласен. Ну не пропустила ни одного занятия в твоем дурацком школьном литературном кружке. Но ведь стихи у нее (сам знаешь) плохие.
«Нам с тобой одна судьбина, нам с тобой одна судьба».
Что в этом хорошего? И посвящено, Пушкарёв, не тебе.
Все равно я таял от нежности. Нежная Соня, кудрявая Сонечка.
Только вот зачем она крикнула с такой страстью: «Отдайте его рабам!»
Кербер, наверное, знал зачем, потому и скалился. Он, наверное, был уверен, что поймают меня девки и отдадут рабам. Буду им сапоги дегтем чистить. Избитый, буду валяться в сарае. Вдруг в Соньке совесть проснется, тайком проберется в сарай, начнет прикладывать к моим синякам компрессы…
Из смутной мглы вдруг дохнуло на меня прохладой.
Невидимая речка пряталась в невидимом овраге, оттуда (снизу) легко и беззвучно наплывали волны теплого белого тумана. Не надо никаких рысей, и Кербера не надо, туман сам по себе был напитан страхами. Он медленно и непреклонно размывал, прятал кусты, медленно и непреклонно топил тропу. Не туманом уже несло, а теплым и плотным паром, ничего в нем нельзя было различить, в самой реке, наверное, только разваренные рыбы плавали.
Но хлюпало что-то там внизу, мягко шуршало.
Может, недоваренные рыбы сердито били по дну хвостами.
А вот сучок хрустнул, шорох подозрительный.
И снова хруст.
Ох, обдало нехорошим холодком, схватят!
Схватят, руки скрутят, погонят, как раба, на заимку.
А там куры всполошатся, все остальные (не участвовавшие в набеге) девки набегут.
Волосы у каждой уложены веночками, все в длинных рубашках, чистенькие, светлые, как в Древней Греции. «Хочу Лёвину шкуру», — завистливо скажет Зоя, Кружевная душа, а девочка-тортик в ответ рассмеется, как колокольчик, добрая, нежная, забирай, дескать, жалко, что ли, все равно не хватит на всех, тоже мне — шкура! Даже Соня (меня холодом обдавало при этой мысли) примет участие в дележе. Одна только Радаманта наклонит голову, упрекнет сестер: чего вы, мол, так торопитесь, дайте сперва я свяжу на этого льва свитерок. «Погребальный?» — надует губки Галантила, змея очковая. Они все, эти девки фирстовские, себе на уме. Они все тут — моя судьба, мой греческий хор, сам нарвался. Куры будут кудахтать, топтаться на моих босых ногах. Умей куры ругаться, как домашние попугаи, вот вышел бы ужас. Представляю, как бы они склоняли мое имя. Даже тихая Вера Ивановна не выдержала бы: «Да переименуйте вы, наконец, этого льва. Все равно я скоро умру».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
![Обложка книги Геннадий Прашкевич - Гуманная педагогика [из жизни птеродактилей]](/books/1070981/gennadij-prashkevich-gumannaya-pedagogika-iz-zhizni-p.webp)