Леонид Рахманов - Люди - народ интересный
- Название:Люди - народ интересный
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Советский писатель
- Год:1978
- Город:Ленинград
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Леонид Рахманов - Люди - народ интересный краткое содержание
Люди - народ интересный - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Но начну с середины. В 1925 году, когда я семнадцатилетним приехал в Ленинград учиться и работать и жил на пятнадцать целковых в меся,я смог купить лишь одну тощую книжечку Бунина, состоявшую из ранних рассказов и «Господина из Сан-Франциско». В марксовском издании Бунина, который я знал по Котельничу, этого рассказа не было, и он произвел на меня – не хочу подбирать иных слов – гипнотическое действие. Я до сих пор не могу простить любимому мною Юрию Карловичу Олеше несправедливых слов: «Пресловутый «Господин из Сан-Франциско»- беспросветен, краски в нем нагромождены до тошноты. Критика буржуазного мира? Не думаю. Собственный страх смерти, зависть к молодым и богатым, какое-то даже лакейство». Откуда, зачем этот поклеп? И откуда взялись «молодые» в «Господине из Сан-Франциско», кому там можно завидовать? Что называет Олеша «лакейством»? В жизни и в сочинениях Бунина и без того хватало подлинных, реальных грехов. Я мысленно спорил с ним, публицистом, я ненавидел его косные, если не сказать - тупые, высказывания о символистах и футуристах (в речи на юбилее «Русских новостей», в «Автобиографии», но я страстно любил Бунина- прозаика, а затем и поэта.
Какую же роль он сыграл в моей литературной работе? Как ни странно, довольно злую. В 1935 году, весной, написав к этому времени уже четыре повести и принявшись за пятую, я прочел рассказ Бунина «Казимир Станиславович», (повторяю, до этого хорошо знал «нивского» Бунина и «Господина из Сан-Франциско»- и на добрых три десятка лет почти перестал писать прозу, занялся сценариями, пьесами, статьями, рецензиями, «педагогикой»… Что случилось? Почему перестал? Очень просто: вдруг ощутил, что т а к писать не могу, а хуже - не стоит. Но разве раньше (да и тогда ) не читал ни чего равного, а то и намного превосходящего этот бунинский рассказ(даже у самого Бунина)? А Толстой, а Стендаль, а Гамсун, которым я увлекался в юности, особенно его «Мистериями», где Нагель уносит с собой в морскую глубь свою тайну? Все такие разные, даже полярные, разве они не дразнили: «Писать так, как мы, ты не можешь»?! Нет, они были столь высоки, далеки, непохожи на те мои представления о прозе, искусство которой словно бы и я могу овладеть, что даже не вызывали желания стремиться к этим недостижимым образцам. А вот Бунин почему-то казался ближе, достижимей, несмотря на свое несравненное мастерство. Разумеется, это был самообман, здесь, возможно, сыграла роль его провинциальность - так в своей уездной глуши я воспринимал его прозу. И, начав писать сам, стал подражать Пильняку,учившемуся в раннем своем сборнике «Былье» прежде всего у Бунина, а уж потом, и то меньше, чем принято считать, у Белого и Ремизова. В Пильняке я ценил настроение уездного революционного быта, деклассированных усадеб, в которых поселились интеллигентные коммунары.( очень это напоминало обнищавшие бунинские усадьбы), а главное- обостренное чувство осенней и зимней уездной природы, - оно –то и шло от Бунина.
Смесь «французского с нижегородским» (точнее- с вятским) образовалась у меня в повести «Полнеба» в 1928 году, когда я начитался Олеши и Жираду, ещё не преодолев «пильняковщины», но Бунин, чистый Бунин сопровождал меня всю жизнь, хотя и не сказывался напрямую на языке, на стиле моих вещей, да это, повторяю, невозможно. Убежден, что при всех моих увлечениях я не мог и не хотел освободиться от родных корней: любовь к родной земле, к её природе проявлялась не в краеведческих пристрастиях, не в землячестве – наоборот, я тяготел к Питеру и бывал рад, когда меня принимали за коренного ленинградца (еще полвека назад!), проявлялась она как раз в том, что любил и ценил Бунин, пусть и не вятич, но такой русский писатель и интеллигент, если не считать смешноватого мелкопоместного барства.
В шестнадцать лет, в год окончания школы, я стал почитывать и философов, тех, что писали поострее и поэффектнее - Ницше, Штирнера, Шопенгауэра,- выбрав их как бы по принципу эпатажа. Собственно, кого я дразнил - родителей, товарищей, библиотекарей? Нет, товарищи и родители знать не знали про мои «философские интересы», библиотекари были в общем – то безразличны, - впрочем, Зоя Петровна иногда удивленно и неодобрительно качала головой, но молчала. Не исключено, что я больше дразнил самого себя: привык с детства к гуманным жизненным правилам - и вдруг столкнулся с жестокими парадоксами, высказанными в яркой, щегольской форме; чего стоил один «Так говорит Заратустра», а говорит он действительно красиво! Это я теперь нахожу в его речах и риторику, и безвкусицу. И просто переливание из пустого в порожнее, а тогда… Полагаю даже, что в моих увлечениях содержалась даже немалая доля игры: вот я уже большой, вот я читаю такие книги, о каких знакомые мне взрослые и не слыхивали.
Правда, в ту пору я уже открывал для себя великого писателя и философа - Достоевского, и уж тут мои изумление и восторг были самыми искренними. Подумать только: после пройденных в школе «Бедных людей», которые показались мне, скорее, бедненькими, ничем не затронули воображение, вдруг прочесть за одно лето все главные романы Достоевского,- это ж не просто лето, это эпоха!
Как – то под вечер. Сидя с книгой на деревянном крылечке нашего уездного дома, но мысленно находясь далеко отсюда - в зловещем карамазовском доме, я услышал знакомый голос.
-Лёня, что вы читаете?- поинтересовался проходивший мимо ветеринарный фельдшер Чеснок и, узнав, осуждающе сказал: - Как это вам позволяют читать такую сальную книгу?
Когда-то я страстно негодовал на захаровских гостей, смеявшихся над «Записками сумасшедшего» Гоголя, сейчас я позволил себе лишь снисходительно пожалеть симпатичного, увы, заблуждающегося Ивана Михайловича. Вслух я ему ничего не сказал, и правильно сделал.
…И все-таки, все-таки Аксаков и Диккенс оставались моими любимцами и тогда, когда вовсю читались Достоевский, Толстой, Чехов, Бунин, Гамсун, Стендаль (не говоря уже о кратковременном остреньком интересе к Ницше), пьесы Гауптмана и Ибсена, а позже - многотомные эпопеи высокочтимого мною и сейчас Томаса Манна. Остаются они среди перечитываемых любимцев и нынче, особенно, когда прихворнешь… Верно писал Мандельштам в «Шуме времени»: «Да, уж тем книгам, что не стояли в первом книжном шкафу, никогда не протиснуться в мировую литературу, как в мирозданье» Насчет мирозданья он, возможно, перехватил, но что «книжный шкап раннего детства - спутник человека на всю жизнь»- совершено верно. Правда, он говорил это не в прямом смысле как известно, Мандельштам был скиталец, кочевник, шкафов с собой не возил, ну а мне посчастливилось: некоторые уцелевшие от пожара книги из отцовской библиотеки перебрались потом из провинции ко мне в Ленинград, и, скажем, Гоголь, Чехов с отцовскими инициалами на кожаных корешках стоят теперь на моих полках.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
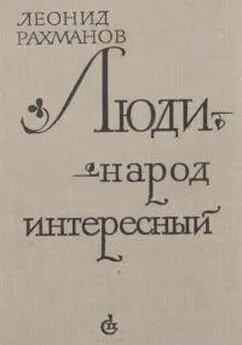


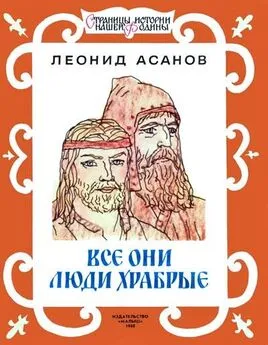
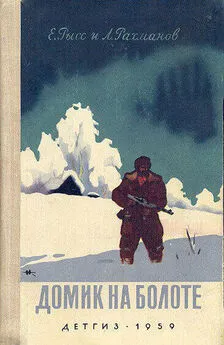
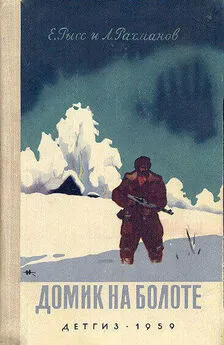

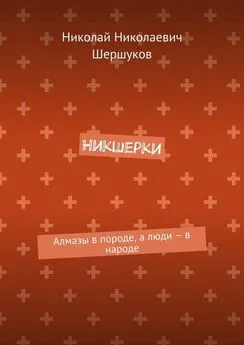
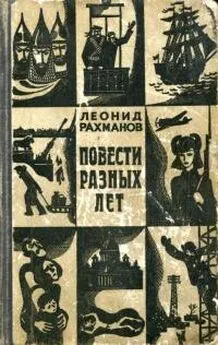
![Леонид Репин - Люди и формулы [Новеллы об ученых]](/books/1101001/leonid-repin-lyudi-i-formuly-novelly-ob-uchenyh.webp)