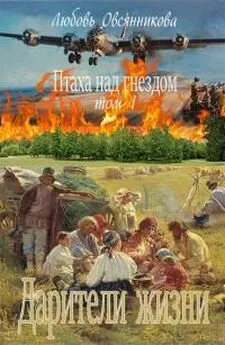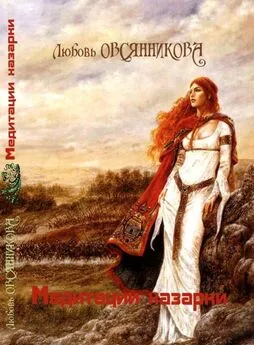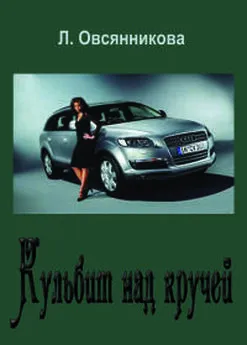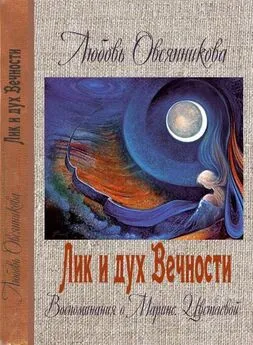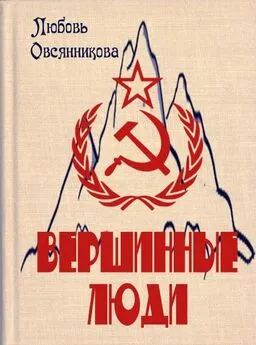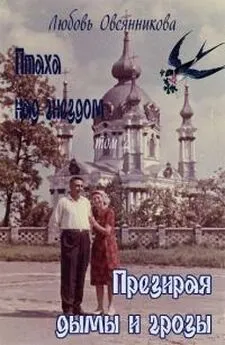Любовь Овсянникова - Птаха над гнездом Том 1. Дарители жизни
- Название:Птаха над гнездом Том 1. Дарители жизни
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Знаки Зодиака
- Год:2019
- Город:Днепр
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Любовь Овсянникова - Птаха над гнездом Том 1. Дарители жизни краткое содержание
Эта книга является первой в серии книг о людях военного поколения, следующими книгами за двухтомником «Птаха над гнездом» будут книги дилогии «Эхо вечности»: «Москва – Багдад» и «Багдад – Славгород».
Птаха над гнездом Том 1. Дарители жизни - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Так оно и случилось.
Ефросинья Алексеевна приняла испуганных сирот своего мужа всем сердцем, а с него самого и вовсе, как говорят в народе, пылинки сдувала. Вообще, замужество очень изменило ее, проявив вдруг кротость нрава и решительность.
Это довольно редкое сочетание качеств многих ставило в тупик, но именно оно позволило ей, после того как без посторонней помощи родила первых своих детей, стать знатной на всю округу сельской повивальной бабкой.
***
Хорошую жизнь прожила Ефросинья Алексеевна, полезную. И примерную. Она была преданна мужу, семье, детям и не раз на деле доказывала это.
Вот хотя бы в голодные годы…
Тогда она уже овдовела и жила с семьей младшей дочери, радуясь, что зять Яков Алексеевич — человек уживчивый и с ним легко ладить. Ведь это она спасла тогда семью дочери от смерти. Возможно, тем самым пример своему зятю подала для дальнейших подвигов?
А дело было так.
После коллективизации время шло, а в стране ничего не улучшалось. Казалось, безвременье установилось надолго.
— Сведут нас в могилу эти паразиты, — бухтела Ефросинья Алексеевна.
— Молчите, мама, не дай Бог, кто-то услышит! — осаживал ее Яков Алексеевич, навсегда запомнивший кутузку, в которой сидел перед вступлением в колхоз. — Посадят ведь, в могилу сведут!
— А чтоб их злая сила на кол посадила, сучьих детей! — тише продолжала ругаться Ефросинья Алексеевна.
Видя, что зять фактически деморализован, она взялась за дело сама, ни на кого не надеясь. И если бы не эта решительность, то, может, вымерла бы под корень семья ее младшей дочери.
Лето 1932 года было солнечное, теплое, с дождями и грозами, очень погожее. Колхозники работали от зори до зори, надеясь на хороший урожай. Главный агроном просил работников, чтобы приводили на поля и на ток и старого и малого. Не щадил и своей жены. Евлампия Пантелеевна очень мучилась грыжей, выматывающей ее болями, но должна была туже увязываться и идти на самую тяжелую работу, дабы не упрекали мужа, что его жена отсиживается дома. Трудилась в кромешном аду — на току, в три смены и без выходных. Все, что уродило и было собрано, переходило через ее маленькие руки на веялку. И за этот каторжный труд колхозницам, женщинам, за один день работы писали 0,50-0,75 трудодня, а на один трудодень в конце 1933 года выдали по 50 граммов зерна.
Но мы чуть забежали вперед.
Так вот, 1932 год был благоприятный, и ничто не указывало на то, что к следующему урожаю доживут не все — умрут от страшного голода. Но Ефросинья Алексеевна, наученная продразверстками да продналогами, уже крепко не доверяла новой власти и на зиму готовила тайные запасы. Никто ее этому не учил, никто от нее такого не ждал. Во все дни она оставалась дома одна и тогда неведомо что делала.
У них за огородом начиналось колхозное поле, засеянное могаром, — итальянским просом. Это однолетнее растение семейства злаков. Его стебли достигают высоты 50-100 см, чуть ниже, чем у проса, но они хорошо облиственны, густые, иногда ветвятся, поэтому человека, зашедшего в посевы могара, практически не видно. Соцветие могара — это колосовидная метелка в четверть метра длиной. Зерновки у могара мельче, чем у проса, зато само зерно — крупнее. Могар использовали на корм скоту и для получения продовольственного зерна. Его и ныне культивируют в странах с субтропическим и умеренным климатом. Одно время его много выращивали и в наших краях, в основном на сено, зеленый корм и как пастбищное растение.
И вот Ефросинья Алексеевна каждый день — в самый зной, когда все кругом замирало, — выходила на это поле и незаметно нарезала охапку метелок. Потом сушила их, вылущивала зерно и прятала. Когда могар собрали, Ефросинья Алексеевна перешла на поле льна. Через это поле ребятишки протоптали стежку к колхозному ставку. Вот старушка и выходила пройтись по ней к воде и посмотреть, чем внуки занимаются, а по дороге незаметно собирала семена льна.
Закон «Об охране социалистической собственности», по которому людям запрещалось рвать в поле любые стебли, приняли только 7 августа 1932 года (он действовал до лета 1933 года). К этой поре Ефросинья Алексеевна успела кое-что заготовить на черный день. Лучшего она ничего не придумала и запрятала припасы на чердак, куда из домашних редко кто наведывался.
С осени власть развернула повальные обыски во дворах и изымала все до зернышка. Людям не оставляли ничего. Обыски повторялись по нескольку раз, и всегда проводились неожиданно. Для этого приезжало много бойцов НКВД, которые брали село в кольцо и медленно продвигались к центру. В каждый двор заходила группа из пяти-семи человек, среди которых были и понятые: влиятельные активисты или представители местной власти. Избежать обысков никто не мог. Кричать и плакать людям не разрешали, а тех, кто не слушался, усмиряли прикладами.
О том, что к ним заявится отряд НКВД для производства обыска, в семье главного агронома узнали, когда те уже орудовали у соседей. Заслышав возню и тревожащие окрики, бабушка Ефросинья почему-то разволновалась больше всех. Она засуетилась, начала бегать из угла в угол, закрывать уши руками, стонать и вздыхать. Бледность не сходила с ее лица, она задыхалась и била себя сжатыми кулачками в грудь… И вдруг ей стало совсем плохо, она зашлась долгим кашлем и постепенно осела на землю посреди двора как раз, когда ненавистная орда показалась в их воротах.
— Вынеси уксус! — не обращая внимания на незваных гостей, крикнула Евлампия Пантелеевна дочке, растирая больной матери виски.
— Ее надо уложить на кушетку, земля уже холодная, — забеспокоился Яков Алексеевич, тоже игнорируя пришедших изымателей.
— Что случилось? — спросил энкэвэдист, возглавляющий отряд.
— Вот, — показала на больную Евлампия Пантелеевна. — Сердце прихватило. У мамы приступ.
В это время малая Прасковья воротилась с уксусом, и Ефросинии Алексеевне дали его понюхать. Она вяло открыла глаза, увидела людей в военной форме и испугалась еще сильнее.
— Умираю... Прощайте, деточки мои… — простонала и снова потеряла сознание.
Поскольку со стороны Ефросиньи Алексеевны не было притворства, а был один только страх, доведший ее до судорог, то и выглядела вся эта картина натурально, впечатляюще.
— Ой, мамочка, не умирай! — закричала Евлампия Пантелеевна своим зычным голосом. — Да ты же полсела своими руками на свет приняла … Да другой же такой тут нету… Да на кого же ты нас покидаешь… Людоньки, отзовитесь же хоть вы кто-нибудь… Помогите… — запричитала она.
Никому из пришедших не надо было, чтобы пошли слухи, что при изымании ими зерна в народе начали происходить смертельные случаи.
Руководитель отряда повернулся к топтавшимся рядом сопровождающим, махнул рукой, дескать, нам здесь делать нечего, и они отправились дальше.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: