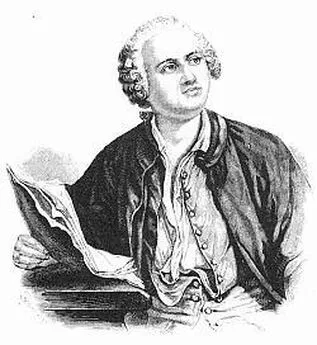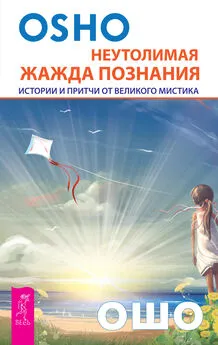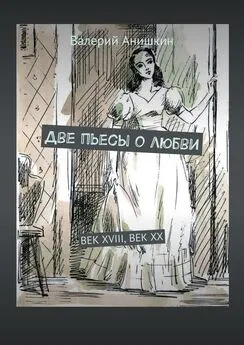Михаил Ломоносов - Жажда познания. Век XVIII
- Название:Жажда познания. Век XVIII
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Молодая гвардия
- Год:1986
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Михаил Ломоносов - Жажда познания. Век XVIII краткое содержание
Жажда познания. Век XVIII - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Выучил я у Брудастаго азбуку. Отец мой отвёз меня близ города Тулы к живущей вдове, Матрёне Петровне, которая в замужестве прежде была за нашим свойственником Афанасьем Денисовичем Даниловым. Матрёна Петровна имела при себе племянника родного и своему имению наследника, Епишкова; то той причине просила отца моего, дабы привёз к ней, как грамоте учиться, так и племяннику её делать компанию; а как вдова своего племянника много любила и нежила, потому не было нам никогда принуждения учиться. Однако я, в такой будучи воле и непринуждённом учении, без малейшего наказания, скоро окончал словесное учение, которое состояло только из двух книг, Часослова и Псалтыри [215] Часослов и Псалтырь — книги для обучения чтению. Содержали тексты молитв и псалмов для церковного пения.
. Вдова была великая богомольщица: редкий день проходил, чтобы у ней в доме не отправлялась служба, когда с попом, а иногда слуга отправлял один оную должность. Я употреблён был в таковой службе к чтению, а как у вдовы любимый её племянник ещё читать не разумел, то от великой на меня зависти и досады, приходя к столу, при котором я читал псалмы, своими сапогами толкал по моим ногам до такой боли, что я до слёз доходил. Вдова, хотя и увидит такие шалости своего племянника, однако более ничего не скажет ему, и то протяжно, как нехотя: «Полно тебе шутить, Ванюшка», и будто не видит она, что от Иванушкиной шутки у меня из глаз слёзы текут. Она грамоте не знала, только всякий день, разогнув большую книгу на столе, акафист Богородице [216] Акафист Богородице — хвалебное церковное песнопение Богоматери.
всем вслух громко читала. Вдова охотница великая была кушать у себя за столом щи с бараниной; только признаюсь, сколько времени у ней я ни жил, не помню того, чтоб прошёл хотя один день без драки: как скоро она примется свои щи любимые за столом кушать, то кухарку, которая готовила те щи, притаща люди в ту горницу, где мы обедаем, положат на пол и станут сечь батожьём немилосердно, и потуда секут и кухарка кричит, пока не перестанет вдова щи кушать. Это так уже введено было во всегдашнее обыкновение: видно для хорошего аппетиту. Вдова так были собою дородна, что ширина её тела немного уступала высоте её роста. В одно время гуляли мы с племянником её, и третий был с нами молодой слуга, который нас учил грамоте и сам учился; племянник её и наследник завёл нас к яблоне, стоявшей за дворами, которая не огорожена была ничем, начал обивать яблоки, не спросись своей тётушки. Донесено было сие преступление тётке его, что племянник около яблони забавляется, обивая яблоки; она приказала всех нас троих привести перед себя на нелицемерный суд и, в страх племяннику, приказала с великим гневом поднять немедленно невинного слугу и учителя нашего на козел, и секли его очень долгое время немилостиво, причитая: «Не обивай яблок с яблони». Потом и до меня дошла очередь: приказала вдова поднять и меня на козел, и было мне удара три подарено в спину, хотя я, как и учитель наш, яблок отнюдь не обивал. Племянник оробел и мнил, что не дойдёт ли и до него по порядку очередь к наказанию, однако страх его был тщетный; только вдова изволила сделать ему выговор в такой силе «что дурно-де, непригоже, сударь, так делать и яблоки обивать без спросу моего»; а после, поцеловав его, сказала: «Чаятельно ты, Иванушка, давеча испугался, как секли твоих товарищей; не бойся, голубчик, я тебя никогда сечь не стану». [...]
Потом отвезли меня в город Данков, в котором тогда воеводою был Никита Михайлович Крюков: он считался с отцом моим родством, а как близко не упомню, только называл он отца моего «братом». У воеводы был сын Василий, в мои лета или ещё моложе. Я жил у воеводы более в гостях, нежели учился: хотя и был у сына воеводского учитель, отставной престарелый поп, только мы не всякий день и зады твердили. [...] В 737 году, в Москве, записал меня брат мой Василий в Артиллерийскую школу, где он уже был записан прежде меня.
По вступлении моём в школу учился я вместе с братом. Жили мы у свойственника своего Милославского, которого двор был близ Каменного моста. В доме была дворецкого жена, Степановна, в роде своём добродетельная; она меня не оставляла, а паче, как по приезде моём в Москву, в 737 году, занемог я горячкою, которая тогда во всей Москве была пятнами, перевалка и мор, я лежал у оной Степановны, и она за мною, как за своим сыном, прилежно ходила. Простонародие, от своего незнания тогда в Москве, полагало смехотворную причину оной болезни мора, якобы в Москву в ночи, на сонных или спящих людей, привели слона из Персии. Мы хаживали с братом на полковой артиллерийский двор, близ Сухаревой башни: там была учреждена наша школа, в которой записано было дворян до 700 человек, и обучали без малейшего порядка.
Я был охотник рисовать. Зная мою к рисованию охоту, сидящий близ меня ученик Жеребцов (который ныне имеет честь быть в артиллерии полковником), сыскав не знаю где-то рисунок на полулисте, принёс с собою в школу показать мне рисование; а при учителе нашем, Прохоре Алабушеве, были тогда приватные незаписанные ученики князь Волконской и князь Сибирской. Они по большой части, бродя в школе по всем покоям без дела, разные делали шутки и шалости. Из оных шалунов один, увидя рисунок у Жеребцова, вырвал его из рук и побежал, с великою скоростью, как с победою, являть учителю Алабушеву: «Жеребцов ученик не учится, и вот какие рисунки в руках держит». Алабушев был человек пьяный и вздорный, по третьему смертоубийству сидел под арестом и взят обучать в школу; вот какой характер штык-юнкера Алабушева; а потому можно знать, сколь великий тогда был недостаток в учёных людях при артиллерии. Алабушев велел привести Жеребцова перед себя и, не приняв от него никакого оправдания в невинности, поваля его на пол, велел рисунок положить ему на спину и сёк Жеребцова немилостиво, покуда рисунок розгами расстегали весь на спине; помню, что не один рисунок пострадал, а досталось и подкладке. Оное странное награждение за рисование оказанное, я, видя, положил сам себе обещание твёрдое, чтоб никогда не носить никаких рисунков с собою в школу и товарищу своему Жеребцову советовал тоже всегда припомнить, что в нашей школе вместо похвалы наказание за рисование учреждено; однако не страшило меня Жеребцова наказание, и я про должал учиться рисовать, только не в школе.
Ученики были все помещены в четырёх великих светилищах, стоявших через сени [217] Сени — холодная, неотапливаемая часть традиционного русского дома; светлица (светилище) — жилое, тёплое и светлое помещение.
, по две на стороне; когда позволялось покинуть ученье и идти обедать или по домам, тогда бывало учинять великий и безобразный во все голоса крик, наподобие «ура», протяжно «шебаш» [ ...]
Интервал:
Закладка: