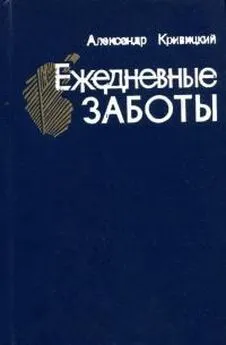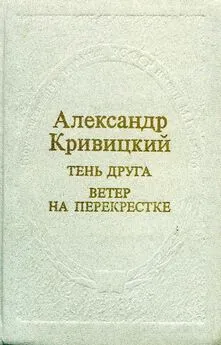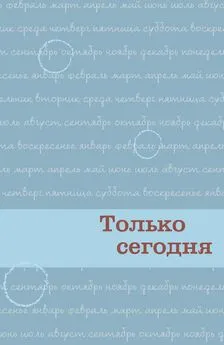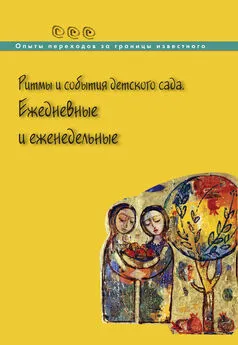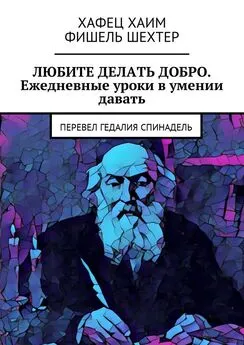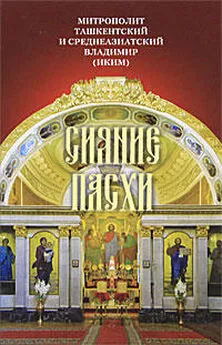Александр Кривицкий - Ежедневные заботы
- Название:Ежедневные заботы
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Современник
- Год:1983
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Кривицкий - Ежедневные заботы краткое содержание
Ежедневные заботы - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Продолжение прозы, или Еще несколько слов все о том же
Поколение, к которому, принадлежал и сам Симонов, и те, кто был чуть моложе его, искали и находили в его предвоенной поэзии и стихах военной поры, в его драматургии и прозе характеры цельные, мужественные, целеустремленные, верные своему призванию, своему человеческому и гражданскому долгу.
О своей влюбленности в симоновское творчество и о том, как оно шло вровень со всей его жизнью, хорошо рассказал однажды известный артист Кирилл Лавров:
«Я давно, задолго до того, как стал артистом, любил писателя Симонова. Во время войны, как все, зачитывался его стихами, многие знал наизусть. Когда служил в армии на Курильских островах, первая моя роль в самодеятельности — Боб Мэрфи из пьесы Симонова «Русский вопрос». Поступал в Киевский театр имени Леси Украинки — читал симоновское стихотворение «Красная площадь». Наконец, в Ленинградском БДТ сыграл Чарльза Говарда в спектакле «Четвертый» и на премьере познакомился с автором, Константином Михайловичем Симоновым. Это роль острохарактерная, почти гротесковая.
Вдруг совершенно неожиданно Константин Михайлович говорит мне, что режиссер Александр Борисович Столпер собирается снимать «Живые и мертвые» и меня (меня!) пригласят на кинопробы. Но ведь нет ничего общего между «акулой капитализма» из спектакля «Четвертый» и Синцовым из «Живых и мертвых». И кинематографического опыта у меня почти не было. Хотя ни на что я не мог надеяться, сердце мое затрепетало.
Потом началась работа…»
Я одним из первых смотрел ее итоги.
Железным резцом врезана война в народную память. Сколько лет прошло с того июньского утра?.. Но вот кольнет тебя в сердце что-то, и вдруг выплывет откуда-то из прошлого, словно из текучего тумана, придвинется к тебе война — сама она со всем ее грохотом и воем, со сводками, донесениями, со страхами и надеждами, с отчаянием и великой верой. Так было и на этот раз. Три с лишним часа на широком экране бушевал сорок первый год в картине «Живые и мертвые».
Давно известно: кино — самое важное и самое массовое из искусств. Но оно также и самое «загадочное». Люди редко задумываются над технической «тайной» превращения молочно-дрожащего луча из проекционной будки в картины жизни, полные движения, страсти или тихого раздумья.
Да и тайна эта в век электроники и атома не столь уж велика. Ее объяснит любой школьник. Но она продолжает поражать с новой силой, особенно в последние годы, когда кинематограф стал успешно осваивать монументальную форму экранного романа. Мы видели уже такие фильмы — отечественные и иностранные — и с чувством удивления и признательности поняли вновь, какие возможности таит в себе это искусство.
Всякий раз, когда речь идет о киноинсценировке известного произведения литературы, критиков так и тянет сличать первоисточник с его кинематографическим перевоплощением. Мне не кажется это занятие плодотворным. Обычно оно носит характер не столько исследовательский, сколько следовательский, — какие куски романа или повести остались закадровыми, что представлено в фильме точно «по оригиналу», а что с отклонениями. Установить такое механическое несоответствие не составляет труда в любом случае. И вот начинается экзекуция режиссера: а почему нет того да почему нет этого?
Но если мы говорим о перевоплощении, то подобные вопросы остаются праздными. Метод скрупулезного сличения романа с фильмом — это, в сущности, попытка судить произведения одного вида по законам другого.
Кинематография не подсобное искусство по отношению к литературе. Она обладает художественным суверенитетом и собственными формами выражения. Вот почему я не перечитывал «Живых и мертвых» ни до, ни после того, как смотрел фильм, снятый по роману. Главное — идейно-эмоциональный итог обоих произведений совпадает.
Народная драма войны возникает на экране в образах сильных и достоверных. Они полным голосом сказали об испытаниях, выпавших на долю советских людей в первый год войны. Здесь многое — и горькое, рвущее душу недоумение бойцов, с тоской глядящих на небо, где еще так мало наших «ястребков», и размышления старого рабочего о пресловутом «факторе внезапности», амнистирующем ход событий, и первые, еще робкие, но уже пугающие Серпилина мысли о Сталине; здесь душевное смятение Ивана Синцова, стиснувшего зубы перед стеной недоверия, в чем-то понятного на войне, но не перестающего от этого быть мучительным для честного человека; здесь и сильная рука поддержки, протянутая ему такими прекрасными коммунистами, как Малинин.
И над всем этим залитое кровью лицо нашего бойца — солдата СССР, копящего в себе волю все перетерпеть, вынести, но одолеть врага.
Фильм масштабен. Обилие эпизодов не размыло в нем связного повествования о целом годе войны. Приметы этого времени точны и убедительны, начиная с фронтовой дороги к Березине и кончая боями под Москвой.
Не знаю, намеренно ли это сделано, но генерал, прибывший с Волоколамского участка, фронта в столицу принимать пополнение, необыкновенно похож на Ивана Васильевича Панфилова — прославленного командира дивизии, где служили двадцать восемь героев. Такая же у него резко обрубленная щеточка темных усов, тот же короткий полушубок с перекрестьем ремней, та же приземистая, ладная фигура. Может быть, просто совпал типаж — а для меня он лишний штрих достоверности.
Масштабы фильма не только во времени, какое он охватывает, хотя можно точно определить координаты: Западный фронт, июнь — декабрь 1941 года. Они в другом, и прежде всего в воздухе, которым дышат герои картины.
Мы знаем талантливые произведения, обескровленные их подкожным тезисом: война есть война и советский солдат может-де заснуть на посту так же, как и древнеримский легионер. Заснуть он, конечно, может, но все дело в том, что он видит во сне и наяву. Да — я это уже сказал, — и из окопной щели наши люди видели небо своей Родины и ее идеалы.
Как это необъяснимо странно, когда краткий перерыв между двумя частями возвращает тебя в зал, отрывая от экрана, где только что кипела война с ее трагическим чередованием окопной шутки и предсмертной судороги, равнодушных облаков и черно-красного следа, прочеркнутого в них зажженным самолетом, гибельной трусости и изумляющей сознание отваги.
Мне кажется, по быстроте вовлечения в глубокое «сопереживание» кинематограф не знает равного себе искусства. И еще по непрерывности, цепкости его плена — ведь редкую книгу прочитываешь сразу.
Даже при одинаковой оценке фильма каждый уносит с экрана что-то особенно ему дорогое. Я до сих пор вижу умирающего командира дивизии полковника Зайчикова. Он лежит на носилках в лесу, в окружении. Ему сказали: знамя дивизии спасено. Старшина Ковальчук вынес дивизионную святыню на себе.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: