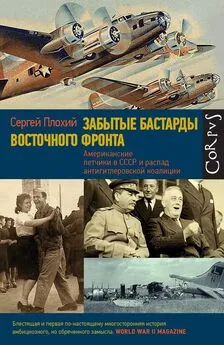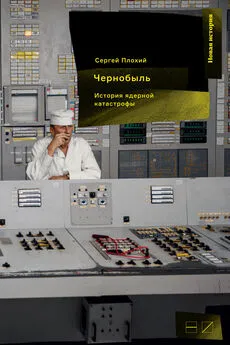Сергей Плохий - Происхождение славянских наций. Домодерные идентичности в Украине и России
- Название:Происхождение славянских наций. Домодерные идентичности в Украине и России
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Фолио
- Год:2018
- Город:Харьков
- ISBN:978-966-03-8091-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Сергей Плохий - Происхождение славянских наций. Домодерные идентичности в Украине и России краткое содержание
Происхождение славянских наций. Домодерные идентичности в Украине и России - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Если Петр имел в виду Малороссийскую отчизну, то Прокопович считал отечеством, которому изменил Мазепа, не Малороссию, а то, что Петр в одном из манифестов назвал «Российским государством» (Прокопович в целом называл ее «Россией»).
Понятие российской отчизны, которое сконструировал Прокопович, стало важным идеологическим нововведением, ибо не только предполагало потенциальное смещение лояльности «малороссийского народа» от Гетманщины к «всероссийскому» государству, но и вводило новый объект верности для остального населения этого государства. По мнению Прокоповича (в отличие от мнения Петра), под Полтавой не было ни малороссийских, ни великороссийских войск — там дислоцировались только российские войска; не существовало отдельных малороссийской и великороссийской наций, была лишь единая российская нация. Малая Русь и Великая Россия были не частями одного «всероссийского государства», а Малороссия становилась частью расширенной России — новой отчизны и нового объекта верности царских подданных. Этот новый источник легитимности был тесно связан со старым — особой царя, но с этого времени царь должен был делить свое место на вершине иерархии лояльностей с понятием России как отчизны. Название «отец отечества», которым киевские авторы раньше величали Мазепу, отныне, в связи со сменой политических границ отчизны, было закреплено исключительно за личностью царя. Не удивительно, что в проповеди 1709 года Прокопович обращался к Петру «отче отечества».
Был ли Прокопович одинок в этой попытке превратить Российское государство в национально определенную отчизну под названием «Россия»? Скорее всего, нет, но доказать это весьма непросто. Одно из свидетельств того, что Прокопович имел могущественного союзника и протектора в этом деле — самого царя, находим в тексте царского повеления войскам накануне Полтавской битвы. В этом документе, заметно отклоняясь от духа предыдущих манифестов, Петр называл свою страну и «Россией», и «отчизной». «Ведало бо российское воинство, — говорилось в тексте повеления, — что оной час пришел, который всего отечества состояние положал на руках их: или пропасть весма, или в лучший вид отродитися России» [226] Письма и бумаги императора Петра Великого, т. 9, вып. 1, № 3251, с. 226 (англ. пер. цит. по: J. Cracraft, «Empire versus Nation: Russian Political Theory under Peter I», Harvard Ukrainian Studies 10, № 3–4 (December 1986), с. 524–541, в частности с. 529).
. Проблема этого указа состоит в том, что оригинальный текст не сохранился, а известная ныне версия взята из рукописи «Истории императора Петра Великого», которую приписывают — кому бы вы думали? — тому же Феофану Прокоповичу [227] Рассмотрение текстологии указа см. в: Письма и бумаги императора Петра Великого, т. 9, вып. 2, с. 980–981.
. К сожалению, мы не можем знать наверняка, так ли именно обращался к своим войскам Петр перед боем, употреблял ли слова «Россия» и «отчизна». Бытование термина «отчизна» в Московии и Российской империи еще необходимо исследовать, но оба слова выглядят вполне уместными в трудах одного из первых популяризаторов представления о России, как об общей отчизне двух народов-наций, которые до Полтавской битвы назывались Малой Россией и Великой Россией.
Понятие отчизны в сознании Прокоповича ассоциировалось с конкретным государственным образованием, которое он считал природным объектом лояльности для его «сыновей» с древних времен. Свое « отечество » было у троянцев, у римлян, а позднее — у поляков [228] Упоминания о троянском, римском и польском «отечестве» см. в: Ф. Прокопович, Сочинения, с. 26, 137.
. Понятное дело, границы отчизны могли меняться вместе с изменениями границ государства. Например, по мысли Прокоповича, Александр Невский «отродил Россию и сия ея члены, Ингрию, глаголю, и Карелию, уже тогда отсещися имевшия, удержал и утвердил в теле отечества своего» [229] См.: «Слово в день святого благоверного князя Александра Невского», в кн.: Ф. Прокопович, Сочинения, с. 100.
. Таким образом, как это часто случалось в проповедях Прокоповича, представление об отчизне и России сливались в одно понятие. Как уже указывалось, представление о России имело выраженную национальную коннотацию в проповедях Прокоповича, поскольку он считал Россию «общенародным именем», часто сопоставлял ее с другими нациями и при случае называл народом [230] См.: Ф. Прокопович, Сочинения, с. 52, 91, 133, 137.
. Понятие России как отчизны связывало понятие российского монарха (сверхважное для Прокоповича) с понятием российского государства (« государство », « держава ») и российского народа-нации.

Александр Невский. Миниатюра из «Царского титулярника» 1672 г.
Новое значение таких терминов как «Россия» и «отчизна», которое Прокопович использовал в своих проповедях и сочинениях после 1709 года, свидетельствовало о возникновении новой идентичности в государстве Романовых — идентичности, которая базировалась не на лояльности к правителю или его государству, а на лояльности нового типа к протонациональному образованию. Прокопович активно распространял эти новые термины и понятия в многочисленных речах и проповедях. Тем самым он вторил протестантским проповедникам из противоположного лагеря Великой Северной войны, а также их коллегам из других частей Северной Европы. Все они своими проповедями и сочинениями активно распространяли представление об отчизне и понятие лояльности к ней [231] О развитии и популяризации понятия отчизны в Северной Европе см.: Pasi Ihalainen, «The Concepts of Fatherland and Nation in Swedish State Sermons from the Late Age of Absolutism to the Accession of Gustavus III», Scandinavian Journal of History 28 (2003), с. 37–58.
. Понятие России как отчизны и объекта лояльности для царских подданных имело необыкновенный успех в Московском царстве эпохи Петра, и в этом успехе несложно увидеть руку Прокоповича. Накануне провозглашения Российского государства империей Прокопович сознательно или бессознательно поощрял «национализацию» вотчины московских царей. Этот процесс усилился в XVIII веке в одно время с «империализацией» Московского государства, совпадение же этих двух тенденций внесло существенное замешательство сначала в помыслы подданных российских императоров, а стало быть, и в интерпретации исследователей русской имперской истории.
Российская империя
22 октября 1721 года в Свято-Троицком соборе Санкт-Петербурга состоялась официальная церемония, посвященная заключению Ништадтского мирного договора со Швецией, который завершил Великую Северную войну. Во время торжеств Сенат наделил Петра І титулом «императора всероссийского» и двумя формами величания: «Великий» и «отец отечества». Согласно официальной версии событий, новый титул царю предоставил Сенат, но на самом деле инициатива исходила от Святейшего Синода. Вероятнее всего, с предложением присвоить Петру І новый титул и формы величания выступил Феофан Прокопович [232] См.: Е. Погосян, Петр I, с. 220–229. Историки традиционно рассматривают церемонию 22 октября 1721 года как начало Российской империи, см., например: E. Anisimov, The Reforms of Peter the Great, с. 143–144 (cр. Е. Анисимов, Время петровских реформ, с. 233–237).
. Величание «Петр Великий» прочно закрепилось и в российской, и в западной историографии, а царствование Петра считают началом нового, имперского периода в истории государства. Не менее важным было величание российского правителя «отцом отчизны» [233] См.: L. Greenfeld, Nationalism, с. 195–196.
. В последнее время все больше внимания уделяется тому, что Петра провозгласили «национальным» императором, правителем Российской империи, а это отличало его от предшественников из Византийской и Священной Римской империй, чьи титулы не имели этнонациональных коннотаций [234] V. Tolz, Russia, с. 41.
. Новый титул и новые формы величания царя сочетали два очень разных понятия политической лояльности, которые бытовали при дворе Петра в первой четвери XVIII века, сплетая их в сложные комбинации. Первым из них было понятие России как нации-государства, а второе — понятие России как государства-империи.
Интервал:
Закладка:

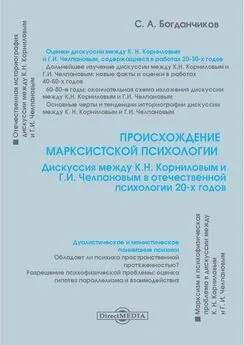

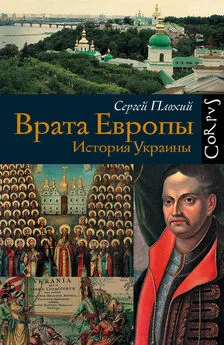
![Сергей Плохий - Чернобыль: История ядерной катастрофы [litres]](/books/1056718/sergej-plohij-chernobyl-istoriya-yadernoj-katastrof.webp)
![Сергей Плохий - Человек, стрелявший ядом [История одного шпиона времен холодной войны]](/books/1074232/sergej-plohij-chelovek-strelyavshij-yadom-istoriya-od.webp)


![Сергей Плохий - Потерянное царство. Поход за имперским идеалом и сотворение русской нации [c 1470 года до наших дней]](/books/1145414/sergej-plohij-poteryannoe-carstvo-pohod-za-impersk.webp)