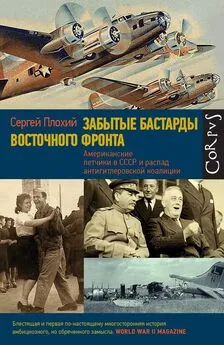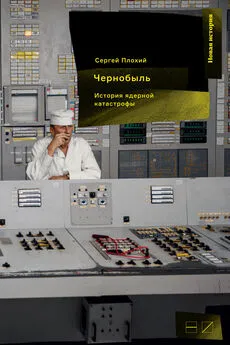Сергей Плохий - Происхождение славянских наций. Домодерные идентичности в Украине и России
- Название:Происхождение славянских наций. Домодерные идентичности в Украине и России
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Фолио
- Год:2018
- Город:Харьков
- ISBN:978-966-03-8091-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Сергей Плохий - Происхождение славянских наций. Домодерные идентичности в Украине и России краткое содержание
Происхождение славянских наций. Домодерные идентичности в Украине и России - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:

Стефан Яворский
Прокопович не был одиноким писателем и проповедником, который события под Полтавой рассматривал сквозь всероссийскую призму. Еще один продукт киевского образования, митрополит Стефан Яворский, приурочил к событиям 1708–1709 годов в Гетманщине не только хвалебные проповеди, но и стихотворение о предательстве Мазепы («In vituperium Mazеpae»), в котором бывший гетман изображен как ядовитый и лукавый змей-отступник. Построенное как плач матери-России, осуждающей предавшего ее сына, стихотворение написано от имени всей России, и нет никаких сомнений, какую именно Россию автор имеет в виду [201] См. стихотворение в кн.: Проповеди Блаженныя памяти Стефана Яворского, ч. 3, Москва, 1805, с. 241–249. О том, как Яворский наложил анафему на Мазепу по приказу Петра, см.: Giovanna Brogi Bercoff, «Mazepa, lo zar e il diavolo. Un inedito di Stefan Javorskij», Russica Romana 7 (2000), с. 167–188; Елена Погосян, «И. С. Мазепа в русской официальной культуре 1708–1725 гг.», в кн.: Mazepa and His Time, с. 315–332, в частности с. 316–318.
. В еще одном произведении о событиях 1708–1709 годов, «Слове о победе над королем шведским», Яворский создает образы Православной церкви и России, которые поют гимны в честь Петра. Яворский, как и Прокопович, считал Мазепу предателем всей России, а не только малороссийской отчизны. Однако он оказался в замешательстве — чем было царево государство: «российским» или «великороссийским» образованием? Простого ответа не существовало, поэтому Яворский, говоря о царском государстве, использовал оба названия [202] Текст «Слова…» см. в кн.: Проповеди Блаженныя памяти Стефана Яворского, ч. 3, с. 299–302. Кроме того, Россия предстает главной координатой в тексте службы в честь полтавской победы, которую приписывают Феофилакту Лопатинскому (1711). О появлении текста службы по заказу Петра І и ее последующей судьбе см.: Е. Погосян, Петр І, с. 177; Е. Погосян, «И. С. Мазепа», с. 327–328.
. Употребляя термин «Россия», Яворский толковал его в более широком, всероссийском значении, чем также способствовал возникновению путаницы с неаккуратным использованием одного слова для обозначения и российского государства, и казацкой Украины. Если светские элиты Гетманщины, которые писали на русском, польском или российском языке, четко отличали свою родину — Украину или Малую Россию — от Московии, которую все чаще называли Великой Россией, то в киевских поэзиях и проповедях, написанных в торжественном стиле, сохранялась древняя могилянская традиция использовать термин «Россия» так, словно за пределами Киевской митрополии не было никакой другой России. Подменяя значение этого термина, Яворский, а пуще его Прокопович, открывали путь к смещению лояльности (а значит, идентичности) от Гетманщины, ее церковных и гражданских образований к российскому царю и его государству.
В течение большей части своей петербургской карьеры Прокопович настоятельно продвигал идею одной объединенной российской нации, для обозначения которой использовал термины « российский народ », « российский род », « россияне » и « российстии сынове ». Как и многие его современники, Прокопович употреблял термин «народ» в двух значениях. Первое охватывает все население царских владений. Обычно Прокопович говорил и писал о «народе» как общности, которая должна быть благодарна своему правителю, потому как главными его заботами были ее счастье и процветание. Чаще всего, когда Прокопович говорил о «народе» в этом первом понимании, он имел в виду элиты общества, но иногда — и «простой народ», состоявший из низших социальный слоев [203] Примеры использования термина «народ» в значении социальной категории в проповедях Прокоповича 1709–1725 годов см. в: Ф. Прокопович, Сочинения, с. 25, 36, 38, 43, 44, 46, 47, 83, 98, 102, 138.
. Второе значение термина «народ» касалось этнокультурной и политической организации мира, который состоял из наций, государств, стран и царств. Все эти термины у Прокоповича были взаимозаменяемы (поэтому для него Казанский ханат был «народом» [204] Там же, с. 24.
). В отдельных случаях Прокопович для обозначения «народа» как субъекта международных отношений употреблял термин «нация» [205] Там же, с. 133. Здесь Прокопович использует термин «нация», чтобы обозначить чужеземное государство в противовес «нашему отечеству».
. В проповедях Прокоповича попадаются упоминания о чужеземных («иностранных») и российских («российстиих») народах, но в большинстве случаев он писал все же об одном российском народе [206] Редкостный пример использования Прокоповичем термина «российстии народы» см.: там же, с. 57. Если говорить о других авторах, то московский патриарх Адриан употреблял слово «народ» во множественном числе для обозначения подданных царя (см., например, его письмо от 19 мая 1696 года к Петру в кн.: Письма императора Петра Великого к брату своему Царю Иоанну Алексеевичу и патриарху Адриану, С.-Петербург, 1788, с. 18–23, в частности с. 19). В тексте службы, которую после Полтавской битвы отслужил, вероятно, еще один киевлянин, упоминавшийся ранее Феофилакт Лопатинский, также проводилось разграничение между «окрестными» и российскими «народами».
. По его мнению, мир состоял из политических обществ (народов-наций), а в России был только один российский народ-нация. Славеноро́ссийская нация автора «Синопсиса», которую неясно привязывали к более широкому славянскому миру, уступала народу-нации, который главным образом ограничивался территорией Московского государства. Такой взгляд хорошо координировался с миропониманием Самуэля Пуфендорфа, чьи сочинения в переводе киевлянина Гавриила Бужинского на весьма славянизированный русский язык хорошо знал Прокопович [207] См.: J. Cracraft, The Petrine Revolution in Russian Culture, с. 212–216. Интерес тогдашнего общества к славянскому происхождению Московского государства проявился в отмеченном заметным церковнославянским влиянием русском переводе труда далматинского ученого и бенедиктинского аббата из Дубровника Мавро Орбини по истории славян («Книга историография початия имене, славы и разширения народа славянского, и их цареи и владетелеи под многими имянами, и со многими царствиями, королевствами, и провинциами. Собрана из многих книг исторических, чрез господина Мавроурбина архимандрита Рагужского», обычно кратко — «Славянское царство», 1722). Нам интересно то, что автор предисловия к книге — тот же Феофилакт Лопатинский — воспользовался «Синопсисом», чтобы опровергнуть некоторые прокатолические утверждения Орбини (там же, с. 217–219). Об Орбини и его труде см.: Giovanna Brogi Bercoff, Krо́lestwo Słowian. Historiografia Renesansu i Baroku w krajach słowiańskich, Izabelin, 1998, с. 43–98.
.
Интервал:
Закладка:

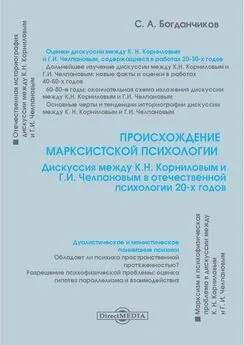

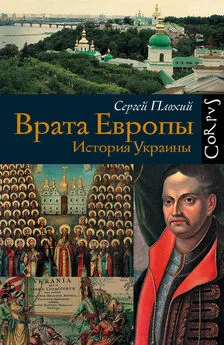
![Сергей Плохий - Чернобыль: История ядерной катастрофы [litres]](/books/1056718/sergej-plohij-chernobyl-istoriya-yadernoj-katastrof.webp)
![Сергей Плохий - Человек, стрелявший ядом [История одного шпиона времен холодной войны]](/books/1074232/sergej-plohij-chelovek-strelyavshij-yadom-istoriya-od.webp)


![Сергей Плохий - Потерянное царство. Поход за имперским идеалом и сотворение русской нации [c 1470 года до наших дней]](/books/1145414/sergej-plohij-poteryannoe-carstvo-pohod-za-impersk.webp)