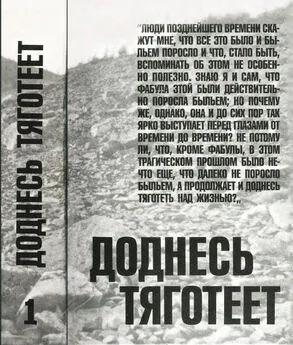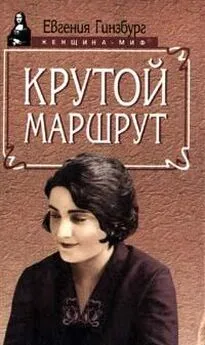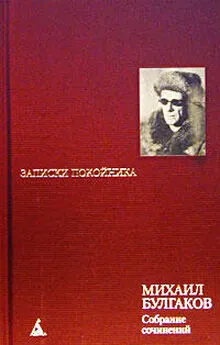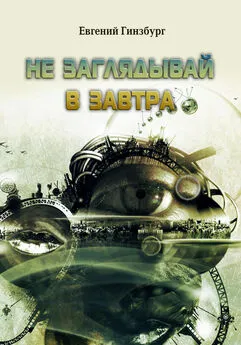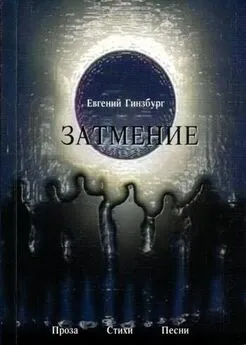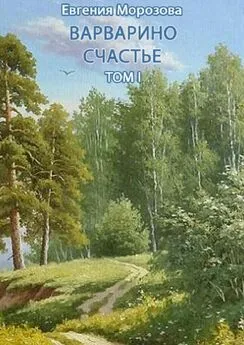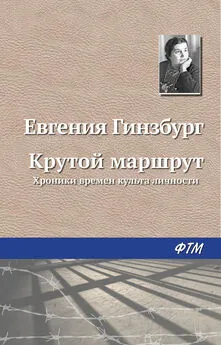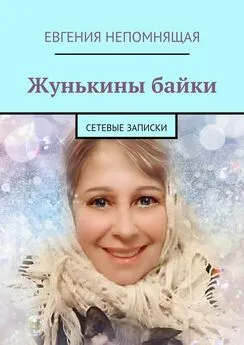Евгения Гинзбург - Доднесь тяготеет. Том 1. Записки вашей современницы
- Название:Доднесь тяготеет. Том 1. Записки вашей современницы
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Возвращение
- Год:2004
- Город:Москва
- ISBN:5-7157-0145-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Евгения Гинзбург - Доднесь тяготеет. Том 1. Записки вашей современницы краткое содержание
Доднесь тяготеет. Том 1. Записки вашей современницы - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Поворачиваю калейдоскоп воспоминаний. Агафья Петровна, жена железнодорожника-кавежединца. Их взяли обоих. По утрам у нее всегда красные глаза: плачет только по ночам; днем — никогда, пытается даже быть веселой. Из рабочей семьи, образование — несколько классов, домашняя хозяйка, она растила детей. Обычная, простая русская женщина. Внутренне сильная, энергичная и волевая, она старалась поддерживать дух у более слабых. Твердо верила сама и старалась вселить в других веру во временность происходившего. Ни разу она не произнесла имени Сталина, не утешала себя и других легендой о том, что все творится помимо него, что он ни о чем не знает. А попадались и такие. Но подобные ламентации встречало холодное молчание камеры, и они, не находя отклика, умолкали. До сих пор помню ее широкое доброе лицо, отливающие рыжиной волосы, неизменное бордовое фланелевое платье и войлочные туфли.
«Правда все равно победит!» — говорила она.
Была в камере еще одна жена железнодорожника-кавежединца молодая белоруска Любинская. Бледная и худая до прозрачности и как бы отстраненная в оцепенелом молчании. В этом состоянии она пребывала постоянно. За несколько месяцев до ареста у нее родился ребенок. Разлученная с младенцем, она находилась теперь на грани тихого помешательства. Не в состоянии как-то осмыслить то, что с ней произошло, она как сомнамбула двигалась, ела, пила, ложилась и вставала… Агафья Петровна как бы взяла над ней шефство: больше других заботилась о ней, проявляла к ней чуткость, разговаривала с ней, утешала.
Комком сгущенной энергии вспоминается мне маленькая хрупкая еврейка Леночка, еще полудевочка, черноглазая, темноволосая. Умная, острая, она иногда впадала в бурные приступы отчаяния: молодая жизнь, со всеми ее радостями, жажда знаний, способности — все тупилось здесь, в этой безмерной тюремной нелепице, и пропадало.
Самая молодая среди нас, она уже набралась за полгода кое-какого тюремного опыта, за это время ей не раз пришлось соприкоснуться с урками, и те сумели заразить ее своей бесшабашной смелостью. В те времена шепота и страха она с беспечным удовольствием рассказывала нам в камере, как уголовные расшифровывают буквенное сокращение СССР — «Смерть Сталину — собаке революции!» Доносчиков среди нас, к счастью, не оказалось. Ее рассказ дал мне понять, что в народе уже рождалось понимание наступившего в стране сталинского террора. Пощадила ли ее судьба или сгинула она в общей могиле? Не знаю…
Почему теперь, когда мне уже более полусотни лет, когда я, как старая черепаха, набралась жизненного опыта и как-то ожесточилась, тонкая, пронзительная грусть скребется у меня в сердце, когда я вспоминаю бабушку Акутину? Я думаю, что тут в основе всегдашнее чувство ответственности и, главное, вины, которое интеллигент органически испытывает перед другим человеком за совершенное над ним зло, не имея к этому злу никакого отношения. Это высший вид «мировой совестливости». К тому же судьба сталкивала меня с бабушкой Акутиной три раза, словно яростно высвечивая для меня фрагменты жизни этой старой русской женщины и весь позор творившегося вокруг.
Однажды в камеру привели новенькую. У дверей, возле параши, как я когда-то, стояла маленькая, седенькая старушка с круглым личиком и носом пуговкой. Выцветшие, подслеповатые глазки смотрели ласково, с просящей, неуверенной полуулыбкой. Она вся лучилась добротой, неиссякаемой и успокаивающей. Вот это и была Татьяна Павловна Акутина.
Одинокая, не оставалось у нее ни кола ни двора, старая крестьянка притулилась в жизни в подмосковной сельской местности у другой, зажиточной старухи-домовладелки домовницей. Топила печи, таскала воду из колодца, когда и скотину покормит, а скотины-то — корова да куры, варево сготовить поможет — словом, справляла нехитрые дела по домашности.
Связывало их еще то, что обе были баптистками. Ходили молиться. Жили потихоньку, никому не мешали, никого не трогали. В 1938 году обеих забрали.
Судьбу свою старуха приняла с безропотным спокойствием. В вопросах религии я, воспитывавшаяся в сознательном возрасте уже в советское время, разбираюсь плохо, мы все росли атеистами, поэтому не могу судить, какую роль играла тут вера, думаю, что в ней Татьяна Павловна находила утешение.
Маленькая и невзрачная, часто помаргивая слезящимися глазками, она подходила ко мне и тихо, нерешительно просила:
— Верынька, доченька, поищи ты у меня в головушке, сделай милость, — мочи нет, чешусь… завшивела, видать, окаянная. Глаза у тебя молодые…
Я распускала жиденькую луковку волос на ее макушке. Перебирала желтовато-седые пряди, искала и давила вшей. Делала это легко, без отвращения — уж очень кроткая старушка была, хотелось помочь ей. Она открыто и охотно ответила на все вопросы, при ее появлении заданные ей камерой, и теперь все больше сидела, где-нибудь притулившись, и молчала.
«С вещами» меня вызвали раньше ее: обведя всех взглядом, я покинула своих подруг и камеру навсегда.
Прошло больше года. Я уже давно жила на месте ссылки — в Казахстане, у берегов Аральского моря. Работала в казахской школе, учила казахчат, весьма причудливо говоривших по-русски — меня они звали «Бэрлександровна», так как наш «В» произносится у них «Б», — премудростям иностранного языка.
Город Аральск, если можно назвать городом скопище глинобитно-соломенных хижин, разбросанных под жгучим солнцем, тонул в песках подошедшей к Аралу безводной пустыни. Я болезненно и непрерывно ощущала отсутствие зелени родной среднерусской полосы. Со стороны России часто проходил товарняк, груженный березовыми кругляками. Смотрела на них и утирала слезы.
Как-то, с трудом шагая в зной по пескам, я увидела издали ковылявшую мне навстречу старуху. Шла трудно, с палочкой, и когда я подошла к ней уже близко, то узнала бабушку Акутину.
Я бросилась к ней:
— Бабушка!.. Татьяна Павловна! — обняла ее. Увидев, обрадовалась как родной. — Вот и пришлось нам свидеться!
Она подняла на меня глаза:
— Никак ты, Верынька! Здравствуй, доченька! И не чаяла больше тебя увидать… а вот сошлись пути-дороженьки. Радость-то какая нежданная!
Бабушка Акутина рассказала, что несколько дней назад их партию заключенных привезли сюда.
— Выгрузили, это, нас. Всё больше старухи. Конвоиры и повели нас сдавать. Как увидели мы: кругом ни дерева, ни травинки… — пали мы им в ноги. «Куда, — говорим, — привезли вы нас? Кругом песок да ветер! Что делать будем? Как жить? На погибель только привезли. Сразу лучше пристрелите!»
Конвоиры все же сдали старух в районный отдел НКВД. Нашли какое-то жилье…
Третья встреча была горше. Я лежала больная тропической дизентерией в эпидемическом бараке городской больницы. Лекарства для этой болезни в больнице не имелось. Поправиться не надеялась. Помогла невероятность, словно кто-то свыше не хотел моей гибели. У одной из ссыльных, работавшей медсестрой, нужное лекарство имелось дома: ей прислали его из Москвы для профилактики — вдруг заболеет! У нее случилась острая нужда в деньгах, она уступила мне драгоценные ампулы, спасшие мне жизнь.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: