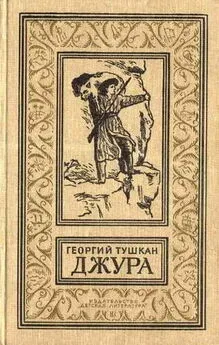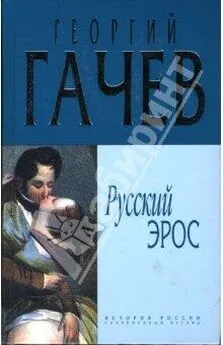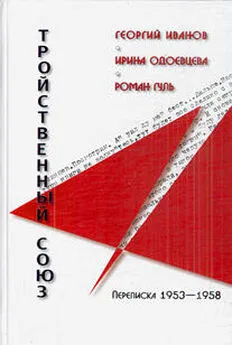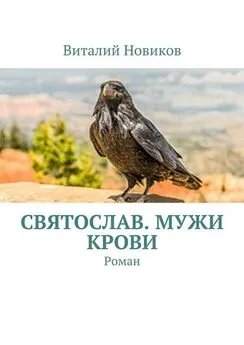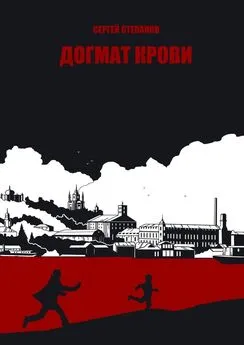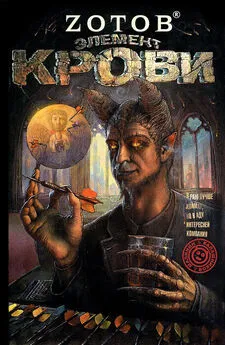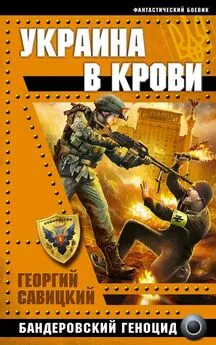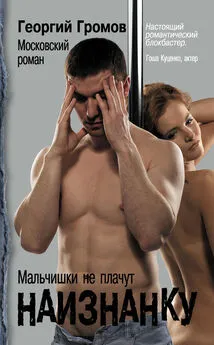Георгий Степанов - Закат в крови [Роман]
- Название:Закат в крови [Роман]
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Советский писатель
- Год:1989
- Город:Москва
- ISBN:5-265-00639-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Георгий Степанов - Закат в крови [Роман] краткое содержание
Закат в крови [Роман] - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
И ни одна ростовская газета не обмолвилась ни словом о том, что поезд Шкуро, поезд-гигант, состоявший из нескольких составов, груженных мануфактурой, сахаром, рабочими лошадьми, отнятыми у воронежских крестьян, буквально забил все пути ростовского железнодорожного узла. И покуда эти составы вне очереди не проследовали на Кубань, «волки» не позволили начальнику станции отправить ни одного другого поезда.
Деникин, став «таганрогским затворником», старался не замечать, что на огромной территории, занятой Добровольческой армией, фактически не чувствовалось его воли. Там полными царьками стали мелкие сатрапы, начиная от губернаторов и кончая войсковыми начальниками, комендантами и контрразведчиками. Каждый действовал по собственному усмотрению, к тому же в полном сознании безнаказанности, ибо понятие о законности почти совсем отсутствовало.
Несмотря на громадные естественные богатства районов, захваченных Добровольческой армией, денежные знаки, выпускаемые Деникиным и Донским правительством, безудержно обесценивались.
Жалование, которое получали офицеры, не могло сколько- нибудь реально обеспечить их семьи, и боевые офицеры если не занимались прямым грабежом, то втягивались во всевозможные спекуляции, везя из Харькова коробки с монпансье и мешки с сахаром сбывать втридорога на Кубани и Тереке.
Многие тысячи екатеринодарских, ростовских, новочеркасских торгашей и просто обывателей щеголяли в новеньких френчах, брюках галифе английского производства, а войска, действовавшие на фронте, вынуждены были обмундировываться за счет населения фронтовых районов.
Награбленное имущество и ценности офицеры полушутя называли реалдобом.
Тыловые войска из военнопленных оставались совершенно раздетыми… Взяточничество, воровство, спекуляция глубоко проникли во все поры военных учреждений, во все отрасли гражданского управления, во все круги Добровольческой армии. За определенную мзду можно было обойти любые распоряжения главного командования и откупиться от самого строгого суда.
Плохо снабжаемая армия питалась исключительно за счет населения, становясь для него непосильным бременем. А огромные поставки из Англии неудержимо расхищались.
Шкуро и Мамонтов не только разрешали войскам «реквизировать» у крестьян все, что попадало под руку, но и всячески поощряли к этому ближайших помощников.
Деникин не доверял никому, кроме Романовского и профессора Соколова, опасался приближать к себе сколько-нибудь умных людей, авторитетных в армии и политических кругах.
Романовский, не желая делить ни с кем своей исключительной близости к командующему, полностью очистил Ставку от тех, кто мог затмить его, рассадив вокруг себя множество бездарных ничтожеств.
На месте погибших Корнилова, Неженцева, Маркова, Алексеева, Дроздовского теперь действовали во главе основных сил армии Май-Маевский, страдающий затяжными запоями, Шкуро, позволяющий своим «волкам» раздевать пленных и грабить русских крестьян, Покровский, продолжавший отмечать всюду свой путь виселицами.
А в деникинском Талейране, профессоре Соколове, по сути дела, не было ничего глубокого, основательного, государственного.
Называя Деникина в своем кругу «царем Антоном», Соколов почти во всем одобрял военно-диктаторские замашки главнокомандующего и в политических прожектах, подаваемых на утверждение Деникина, не обнаруживал даже намеков на создание сколько-нибудь высокой идейной белой программы, способной зажигать сердца и привлекать симпатии широких масс.
Деникин мечтал не позже октября въехать в Москву, но, сидя в Таганроге, ставшем далеким от действующих армий, не мог нажимать на все педали.
Его командование в этот период не походило на спокойную уверенность опытного шахматиста, бесстрастно оценивающего шансы сторон и систематически передвигающего нужные фигуры. Это была скорее азартная игра и вера счастливого карточного игрока, смело делающего ставку за ставкой. А главное, он ослеплялся стремительным продвижением вперед некоторых добровольческих дивизий и поэтому нередко чрезмерно благодушествовал.
Глава девятнадцатая
Сидя за вечерним самоваром, Шемякин долго и внимательно листал целую кипу газет, наконец, обращаясь к Леониду Ивановичу, сказал:
— В связи с огромными успехами Добровольческой армии мне все чаще приходит мысль, что русские крестьянские массы начинают разочаровываться в большевизме. Ведь нет обещанного мира, нет промышленных товаров, разруха и бесхозяйственность все более поражают все стороны жизни Советской России. Дивизии добровольцев уже находятся в двух-трех переходах от Тулы… Очевидно, у большевиков действительно нет здоровой государственности и здоровых коллективных сил, способных осуществлять созидательную работу в необходимых масштабах. Например, мы здесь с вами пишем и распространяем листовки. Погибла некогда Парижская коммуна, погибнет и Московская коммуна.
Леонид Иванович, не перебивая, выслушал художника и спокойно сказал:
— Не уподобляйтесь, мой друг, Шатобриану, который в своем «Опыте о революциях» развивал пространную параллель между революциями английской и французской, забавляясь самыми поверхностными сопоставлениями. Нельзя сравнивать французскую революцию с русской даже по одному тому, что французская революция началась в мирное время, а русская вспыхнула в разгар мировой бойни.
— Ну, если французская революция вспыхнула в мирное время, — быстро заметил Шемякин, налив из самовара в стакан кипятку, — то она имела возможность в полной мере использовать неизрасходованную на четырехлетнюю войну энергию народа. Следовательно, она была в более выгодном положении. А как заставить русских крестьян вновь воевать после тяжелой, изнурительной мировой бойни? Боевой запал у русского народа исчерпан, и исчерпан не сейчас, а еще в семнадцатом году. Примечательно, что уже в ту пору все партии, которые призывали к войне до победного конца, были решительно отвергнуты солдатскими массами. И даже когда Керенский, уговаривая фронтовиков, обещал свободу и землю, один солдат крикнул ему совершенно резонно: «А на что мне твоя земля, ежели меня сейчас убьют на фронте?! Нет, ты давай мир, а потом — землю!» И, наверное, сейчас точно такой же солдат кричит красным комиссарам, призывающим к борьбе с Деникиным: «Давай замирение, а потом Советы».
— А вот вы не задавались вопросом, — вдруг спросил Леонид Иванович, — почему из трехтысячного отряда Корнилова в конце концов выросла почти трехсоттысячная белая армия?
— Нет, — ответил Шемякин, — но вопрос этот интересен. Может быть, вы сами ответите на него?
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
![Обложка книги Георгий Степанов - Закат в крови [Роман]](/books/1094143/georgij-stepanov-zakat-v-krovi-roman.webp)