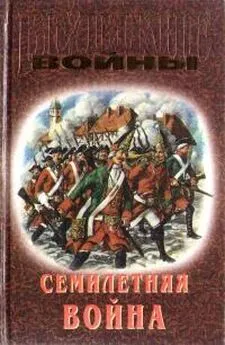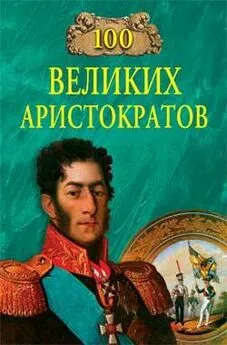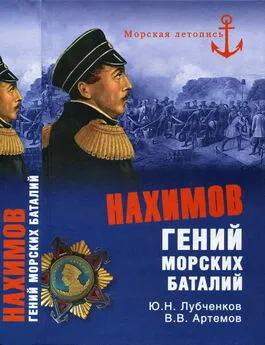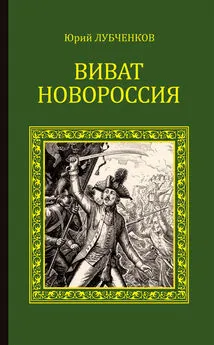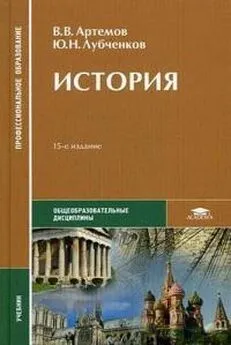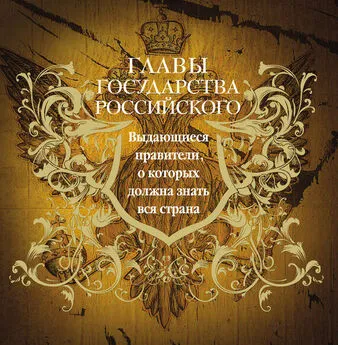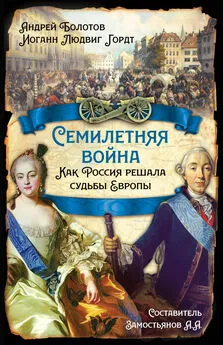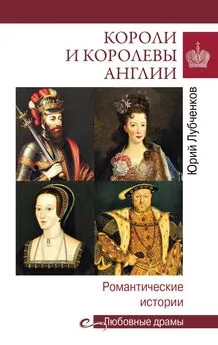Юрий Лубченков - Семилетняя война
- Название:Семилетняя война
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Вече
- Год:1999
- Город:Москва
- ISBN:5-7838-0422-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Юрий Лубченков - Семилетняя война краткое содержание
В сборнике:
Осипов К. Дорога на Берлин.
Лубченков Ю.Н. Пётр Румянцев.
Семилетняя война в мемуарах.
Семилетняя война - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
— Мне сейчас не до жалости! — вскричал он. — Я сам еле живу. Каждый сноп соломы, который доходит до меня, каждый транспорт рекрутов или денег становится либо подачкой, брошенной мне врагами из милости, либо доказательством их нерадивости. Если положение дел в Европе не изменится, нам скоро нечего будет противопоставить противникам.
— Но ведь смерть этой девушки не принесёт вам пользы, — осторожно заметил купец.
— Сентименты! Что мне до её жизни! Что мне до вас всех! Эти проклятые русские! Если хотите знать, с моей стороны почти глупо ещё существовать.
Он повернулся спиной к Гоцковскому и вышел, хлопнув дверью с такой силой, что стёкла в окнах жалобно зазвенели.
Глава шестая
Поход
1
Весна 1760 года была на исходе.
Наливавшиеся соком травы окрасились яркой, до синевы, зеленью. На умытых росами приречных блестящих кустах копошилась разноголосая птичья мелочь. В белом от солнечного спета небе неподвижно висели ястребы.
Не стало больше прохладных зорь, когда зябко и весело ёжились плескавшиеся обледенелой водой солдаты. Солнце сделалось горячим и злым и задолго до полудня начинало жечь влажные от пота лица. Небосвод стал словно выше, и по ночам в нём ярче горели звёзды.
Но люди, вершившие дело войны, не замечали чудес, творимых природой. Светлой розовой ранью, палящим полднем и дождливым вечером они строили реданты [31] Реданты — укрепления.
, выставляли караулы, стреляли, колесили взад и вперёд по широким дорогам, по просёлкам и нехоженым тропам.
В квартирмейстерской части [32] Обычное тогдашнее название генерального штаба.
русской армии круглые сутки кипела работа. В рядах действовавших войск оставалось не больше 60 тысяч человек. Вместо испрошенных главной квартирой после Кунерсдорфа 30 тысяч солдат из России было послано только 6 тысяч, да и из тех свыше тысячи умерло или заболело в пути. Был расчёт на рекрутский набор в занятых областях Восточной Пруссии; пруссаков можно было бы направить на должности извозчиков и денщиков, освободив занятых там русских. Но в дело вмешалась немецкая партия. Генерал Корф, назначенный кенигсбергским губернатором, представлял, что если будет объявлен набор, то жители Восточной Пруссии будто бы разбегутся. А так как предполагалось, что эти области войдут в состав Российской империи, то Воронцов, вняв уверениям Корфа, отменил набор. Людей в армии по-прежнему не хватало.
Были и другие хлопоты. В январе 1760 года в армию прибыл полковник Тютчев для устройства артиллерии. Генерал-фельдцейхмейстер Пётр Шувалов сделал удачный выбор: Тютчев решительно взялся за дело. Артиллерия подразделялась на полевую и бомбардирскую; та и другая была подчинена начальнику артиллерии, состоявшему под непосредственным начальством главнокомандующего. В бригадах и корпусах выделялась особая резервная артиллерия. Орудиям большого калибра предписывалось открывать огонь с 750 сажен, а малого — с 400 сажен. Первый огонь надлежало направлять на неприятельские батареи, а на ближних дистанциях стрелять по пехоте и коннице. В обязательное условие вменялось артиллерийским офицерам требование взаимной выручки.
Подверглось переустройству и продовольственное дело. Генерал-провиантмейстер Василий Иванович Суворов устроил в Познани обширные магазины, но другие тыловые магазины ему так и не удавалось устроить. Транспортировать провиант из России было очень далеко, а заготовлять на месте трудно, ввиду ограниченности денежных средств: как в Польше, так даже и в Пруссии продовольствие приобретали почти исключительно за наличные деньги, чтобы не раздражать местных жителей, не желавших принимать в уплату квитанции. В короткий срок было истрачено около 400 тысяч рублей, а новых сумм не поступало.
Генерал-лейтенант Суворов измышлял самые хитроумные способы, как бы доставать провиант под квитанции, оплачиваемые потом в Петербурге, не нарушая в то же время директив Конференции о политичном обращении с населением. В помощь себе он взял из главной квартиры нескольких офицеров, показавшихся ему наиболее пригодными для такой деликатной миссии. Среди этих офицеров был и Шатилов.
Петербург, шумные балы, разговор с великой княгиней — всё это уже быльём поросло. Бешено скача из столицы с рескриптом о противодействии сепаратистским попыткам Пруссии, Шатилов чувствовал, что с каждой верстой весь этот мир блеска, мишуры, интриг и хитросплетений словно расплывается в морозной дымке, становится призрачным, и всё, что ещё день назад казалось таким важным, уже начало терять цену. Иногда только с сожалением вспоминал он о неразоблачённом Тагене, да по-прежнему неотвязно ныла где-то на самом дне сознания, в сокровеннейшем уголке души, мысль об Ольге. Но власть над ним уже приобрела та жизнь, с которой он за год успел неразрывно сродниться.
Он понял, что в столице всё время тосковал по этой жизни, по армии, по трудностям и постоянной новизне походов, по солдатским песням, то унылым, то безудержно залихватским, по волнующему напряжению битв и по суровой, мужской боевой дружбе.
В главной квартире многое изменилось. Салтыков болел, и его часто и подолгу замещал Фермор. Алексей Никитич отдавал должное опытности и предусмотрительности Фермера, но не мог побороть антипатии к нему. Он мирился с тем, что у Фермора не было широты кругозора и горячей веры в русское оружие, которые так пленяли в графе Петре Семёновиче, но он не мог простить Фермору его холодного педантизма и постоянной заботы о прусских жителях в ущерб русским солдатам. Поэтому Шатилов был даже рад, когда генерал-лейтенант Суворов вытребовал его к себе.
Всё лето он провёл в разъездах, закупая муку, овёс и картофель; ранней осенью Суворов послал его с рапортом к главнокомандующему. Сделав доклад, Шатилов тотчас же пустился на розыски своего друга, как ребёнок, радуясь предстоящей встрече, Он нашёл его только вечером, завертел, закружил в объятиях.
— Пусти, ошалелый! — отбивался Ивонин. — У меня дела ещё.
— Эва! Завтра на заре я уезжаю, так уж эту ноченьку твои дела подождут.
— Ин ладно.
Они вышли на высокий берег, окаймлённый густым тёмным кустарником. Под ногами шуршал размётанный багрянец листьев. По чёрной реке катилась светлая дорожка.
— Одер, — задумчиво сказал Ивонин. — А у славян издревле Одрой сия река прозывалась. Уже и забыто, что во всех сих местах славянские племена жили и на костях их пруссы своё благополучие воздвигли.
— Да ещё и тем недовольны. Снова хотят славянские земли заглотнуть.
— На сей раз не выйдет… Одначе рассказывай.
Выслушав Алексея Никитича, он вздохнул.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: