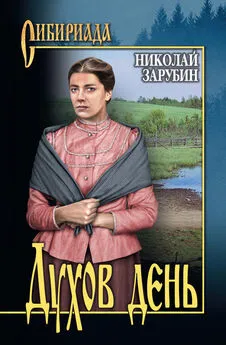Николай Зарубин - Духов день
- Название:Духов день
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Вече
- Год:2017
- Город:Москва
- ISBN:978-5-4444-9161-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Николай Зарубин - Духов день краткое содержание
Духов день - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Всякий, кто хоть раз глянул бы на руки бабы Поли, непременно подивился, а были они у нее воистину мужицкие: крупные, узловатые, с толстыми набухшими венами, какие бывают у тех, кто каждый день на тяжелой работе. Оно так и происходило: воротила уборщицей в конторе леспромхоза, рубила лед у водоразборной будки, ходила помогать соседям косить сено, копать картошку, да свои огород, стайка, дом, трое мальчишек и еще много чего…
Проживет свою копеечную зарплату – и по соседкам:
– Галя, милая, займи до получки десяточку, у средненького мово совсем штанишки изорвались, латать уж нечего. Прикуплю какого сатинчика да и сошью сама на руках – в школу вить голышом не пойдешь…
Галя, бывает, и выговорит: чего, мол, ты, милая, когда выпивать-то бросишь? В годах ведь, не к лицу тебе…
Бывает, и молча вынесет и подаст молча, хорошо зная, что Поля и вернет деньги вовремя, и по своей воле придет подмочь чего, не ожидая за это никакой платы.
А нет у Гали, так к Люсе или к Вале – всякая даст, потому что живут они здесь давно и вместе перемогают любую беду и любую радость.
За заботами каждодневными, а может, и за выпивкой незаметно подрастали сыновья, превращаясь в парней таких же сильных, каким был их отец: крупных в кости, уверенных в себе, но при этом небалованных, уважительных к старшим и по отношению к ней, к матери. Хоть и выпивала баба Поля, но голодными-холодными они у нее не ходили: во всякий день и во всякое время стояла в русской печи сковородка с жареной картошечкой – пусть даже на воде, а в кастрюльке старенькой покоилась горбушечка свежего хлебца. Да огурчик, да грибочек какой, да капустка квашеная. В избе бедно, но поразительно чисто и уютно – к тому сыновья, видно, и попривыкли, не требуя от матери того, чего она не могла им дать. Были они и обстираны, правда, до усов над губой носили одежку с аккуратно приштопанными заплатами то на коленках, то на локтях, то на каких других выступающих округлых частях молодого тела.
Потом один за другим повылетали из родного гнезда кто куда, но, опять же, все при специальности, при месте и при деле – ни один не пошел по кривой дорожке, не спился и не сгулялся, не позарился на чужое, не нанес какого вреда окружающему люду.
И оказалась баба Поля как бы ни при чем, как бы утратив смысл и направление своего земного бытия, когда не надо уже суетиться с раннего утра и до позднего вечера, гнуться на своей и на казенной работе. И положилась она на свою грошовую пенсию, перейдя на то, что подешевле и позабористей – на тройной одеколон, так как от привычки к спиртному отказаться уже не могла, да и не хотела. Соседкам же говорила так:
– Одеколончик тройной я пью, потому что животом маюсь чуть ли не сызмальства. Только им и спасаюсь, и ничегошеньки мне не надобно…
Соседки не спорили и не корили – было им, видно, все одно, что пьет и чем опохмеляется баба Поля, да и какая, в принципе, разница, если у самих то одна беда, то другая напасть, потому что у многих уже поумирали хозяева, а хозяйки глядели, куда бы приклонить голову – к дочке или к сыну или уж домучивать век свой в постылом одиночестве в хате, где так уютно жилось при живом муже и при малых еще детках.
А баба Поля не схотела прозябать в своей избе, неожиданно для всех продав ее за гроши и переселившись в общий барак, полный таких же, как и она, одиноких старух, у которых сыновья и дочери разъехались и разлетелись по городам и весям.
И поначалу ей даже нравилось такое житие под одной крышей в этом пансионате сиротства пристигнувшей старости, но прошел год, другой – и стала она горевать по брошенным своим углам да по привычному окружению людскому на родной ей улице, где и она знала каждого, и ее хорошо знали и принимали такой, какой и была.
Барак своим возрастом был чуть помладше бабы Поли – крепкий, собранный из толстенных бревен, сработанный мастерами, каких уже не найти. Перегороженный многими простенками, перенес он в своей деревянной жизни не одно внутреннее переустройство и переделку, которую затевали поселенцы соразмерно потребностям. Поначалу здесь ютилось столько народу, сколько умещается пчел в улье, и гудел он от людских голосов и страстей единым будничным аккордом, состоявшим из шипений поплывших через край варев из множества кастрюль, из шарканья множества ног, из хлопанья и скрипа множества дверей, из стука о края кадок множества ковшиков, из тиканья множества ходиков, а впоследствии – и рева множества тарелок-громкоговорителей, какие в первоначальную пору были еще в диковинку, и потому врубались на полную мощь.
В годы военные барак сотрясался от стенаний женских, происходивших от причин известных, но мало кому ведомых, кроме разве что его стен, поскольку никто не желал умножать всеобщую людскую скорбь публичностью собственных страданий.
В конце сороковых и в пятидесятые барак жил точно так же, как и его возвращенные к жизни поселенцы, – в радостной и хлопотливой безоглядности, когда впереди все новое – и вера, и надежда, и любовь. Но оказалось, что все новое и волнительное было отведено исключительно проживавшим в нем человекам, а вот ему отводилась роль перевалочного постоялого пункта со всеми вытекающими отсюда последствиями: печей никто не перекладывал, полов не перебирал, стен не подштукатуривал, оконных подушек не менял, электропроводок не чинил. Все силы и надежды вкладывали люди в дома, которые в те годы вырастали, как грибы, образуя новые улицы и даже целые отдельные поселки.
Еще одна волна поселенцев – пришлые из чужих сторон люди, которым некуда было податься и которых никто нигде не ждал. Эти поселялись надолго и переделывать начинали многое: убирали ненужные им перегородки, перекладывали печи и даже проводили водяное отопление. И барак менялся совершенно, менялся опять же своим бревенчатым нутром, но не своей деревянной сутью, оставаясь все тем же перевалочным пунктом, из которого люди побегут сразу, как только замаячит отдельное жилье, рассчитанное на посемейное проживание.
И бежали, и оставляли как будто обжитые углы – обжитые, но не ставшие своими. На место беглецов селились старики, кого так же бросали близкие, как только переставали они быть опорой для оперившихся детей, как только переставали сами они чувствовать опору отмерших и сошедших в мир иной своих половин.
И эти для барака, наверное, были всего дороже, ибо и сам он довершал свой земной круг, сотворенный мастерами для кого-то и для чего-то, чтобы дообогреть, догнить и дотлеть в свой час и быть однажды разобранным на дрова, уступить место жилью новому – для новой деревянной или кирпичной жизни, у которой также свой срок.
Старики эти не ходили друг к дружке распивать чаи, и не потому, что не знали хлебосольства. Копеек, что один раз в месяц принимали от почтальона, хватало ровно настолько, чтобы добрести до пенсиона следующего, дожиться до весны, до своей узкой грядки на крохотном клочке землицы, вскопанной и очищенной с превеликим старанием на пустыре за бараком, где когда-то ровными узкими полосами обитали огороды здоровых и старательных жильцов из числа поколений предыдущих. С терпением дожидались они появления на этих грядках тоненьких стеблей лука, кустиков морковочки, зарождающихся пупырчатых огурчиков, кои, конечно, были предметом гордости далеко не многих из них, потому как требовали особого ухода и наличия в телесах стариков искомого запаса прочности. Собирались старики на полусгнивших лавочках или, по крайности, на истертых половицах невысоких крылечек, где и случались промеж них нехитрые разговоры, кончающиеся иной раз перебранкой, потому что каждый норовил выставить свою прошлую жизнь в наивыгоднейшем свете, а про жизнь каждого здесь знали буквально все и завираний не прощали, пусть даже самых безобидных.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
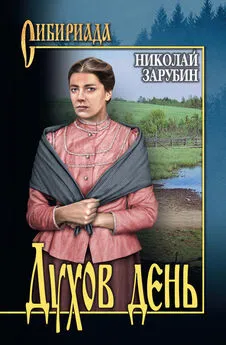



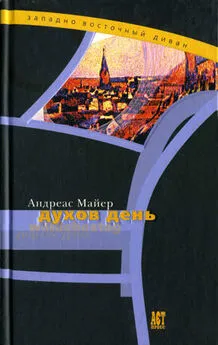

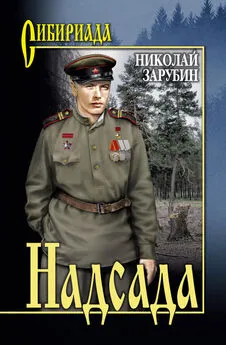
![chromewitch - Духов день [СИ]](/books/1081370/chromewitch-duhov-den-si.webp)