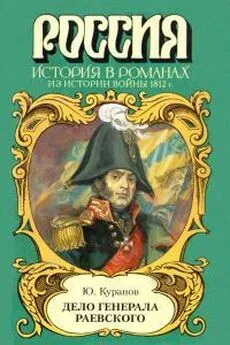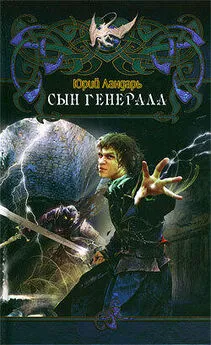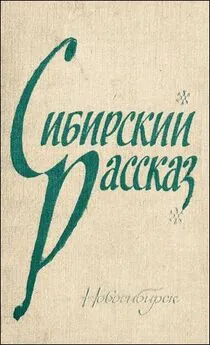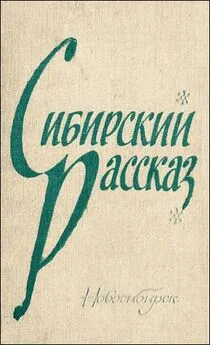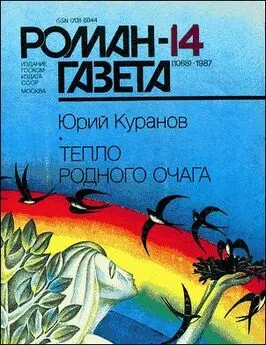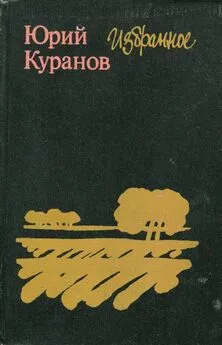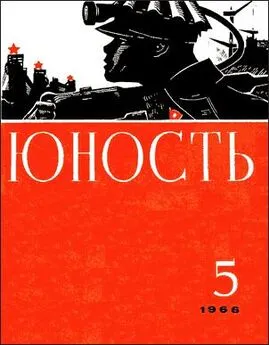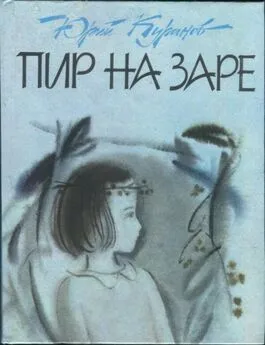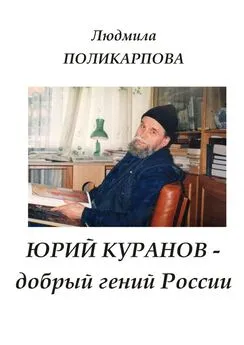Юрий Куранов - Дело генерала Раевского
- Название:Дело генерала Раевского
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Армада
- Год:1997
- Город:Москва
- ISBN:5-7632-0309-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Юрий Куранов - Дело генерала Раевского краткое содержание
Имя генерала Николая Раевского (1771—1829) — героя Отечественной войны 1812 года — должно быть поставлено в один ряд с Багратионом и Барклаем-де-Толли. Долгие годы они провели на полях сражений плечом к плечу, выковывая славу русского оружия.
Честь, доблесть и патриотизм были начертаны на их знамёнах. Но всё ли мы знаем о них? Чему научила нас история? Аргументы и выводы Ю. Куранова не только неожиданны, но часто беспощадны и драматичны. История не прощает забвения...
Дело генерала Раевского - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Полковник Никитин, командир артиллерийских рот, во мгновение ока оценил ситуацию, понял начальника и открыл сметающий огонь по французам, оседлавшим Курганную высоту.
Сам же Ермолов во главе третьего батальона Уфимского полка повёл сокрушительную атаку. Бежазшие было егеря пошли за генералом. Генерал-майор Паскевич, командующий двадцать шестой пехотной дивизией, сорокалетний красавец с изысканными небольшими бакенбардами, с живыми тёмными глазами, взглядом стремительным и чётким, с остатками дивизии бросился на французов, засевших во рву на левом фланге батареи. Генерал-майор Васильчиков, стремительный удалец с лицом офицерского заводилы, двумя полками пехоты своей пошёл на правый фланг противника. И драгуны Оренбургского полка встали насмерть между Васильчиковым и Паскевичем. Жестокий этот рукопашный бой принял остервенелый характер. Раевский, о себе, как и всегда, почти не отпускавший ни слова, писал о них: «В мгновение ока опрокинули они неприятельские колонны и гнали их до кустарников столь сильно, что едва ли кто из французов спасся...»
Сам Раевский уже пришёл в себя и шёл впереди своих солдат и одновременно отдавал приказания, не выпуская из внимания ни одной мелочи из происходящего вокруг. В голове звенело, лицо его было залито кровью. А Ермолов, широкоплечий разъярённый гигант, отчаянно дрался уже на самой батарее.
«Он был среди нас как Самсон», — говорил не раз потом Раевский.
Оба генерала были знакомы ещё по Персидскому походу 1796 года.
Генерал от артиллерии Алексей Петрович Ермолов родился весной 1777 года, на шесть лет позднее Раевского. Родился он в небогатой дворянской семье на Орловщине, в той самой глубине России, в глубине её души, культуры, жизненного уклада и склада характера, которую до самого 1928 года называли Великороссией. Он был типичный — и внешне и по натуре — великоросс, то есть принадлежал к тому ядру народа русского, вокруг которого собралась и очухалась после татарского погрома, а потом и сплотилась та часть Руси, которая отличалась деятельностью, невозмутимостью, широтой характера и умением не падать духом при любых обстоятельствах. Москва и напиталась этими могучими соками народного нутра, выжила ими, на них взросла. А Петербург их подмял и принялся оттеснять от первых мест в хозяйствовании и в делах государственных, зная, однако, что на этих людей в любую минуту можно положиться. В Петербург, этот город с лукавым названием, слеталась со всей империи самая предприимчивая в административном духе публика, самая авантюрная, самая безразличная к простому люду и самая поверхностная, но и в то же время самая изворотливая в достижении своих личных интересов. Этот город быстро принялся высасывать из окружающих городов, городков, сел, деревень наиболее одарённую личность, раздавливая её в холодных, нелюдимых улицах своих и в переулках, лишая всех именно признака личности.
Ещё в ребячестве Ермолов был записан в полк и в пятнадцать лет уже стал капитаном. Он воевал в Польше, участвовал в странном Персидском походе, который предпринимался Павлом Первым для вроде бы защиты местных жителей от грабителей с горных пустынь и долин Ирана. За связи с кружком вольнодумцев был он арестован в 1798 году и сослан в Кострому, а после удушения Павла Первого из ссылки возвращён. В первую войну с Наполеоном командовал мастерски артиллерией авангарда. Будучи начальником штаба Первой Западной армии, вопреки желанию Барклая, настоял на объединении двух искусственно разобщённых русских армий. Во время Бородинского сражения отважно выполнял, а порою и дополнял, изменяя, приказы Кутузова, при котором в то время постоянно находился некий «чёрный маркиз». От влияния этого «маркиза» — кстати, исчезнувшего после бегства Наполеона из России, — Ермолов как мог и спасал престарелого и быстро утомлявшегося главнокомандующего.
Генерал Ермолов, человек долгой, яркой и властной активности, ещё многие годы был живой легендой среди российских военных и гражданских лиц, будучи нередко адресом своеобразного паломничества, поскольку жил вдали от обеих столиц, под Ельцом. Направляясь в Арзрум, Пушкин не преминул посетить живую легенду. Именно его имел в виду Лермонтов, говоря в стихотворении «Спор»:
Их ведёт, грозя очами,
Генерал седой...
Его же имел в виду Лермонтов в начале своей романтической поэмы «Мцыри».
А Пушкин писал о нём так: «...из Москвы поехал я на Калугу, Белев и Орёл и сделал таким образом 200 вёрст лишних; зато увидел Ермолова. Я приехал к нему в восемь часов утра и не застал его дома. Извозчик мой сказал мне, что Ермолов ни у кого не бывает, кроме как у отца своего, простого набожного старика, что он не принимает одних только городских чиновников, а что всякому другому доступ свободен. Через час я снова к нему приехал. Ермолов принял меня с обыкновенной своей любезностью. С первого взгляда я не нашёл в нём ни малейшего сходства с его портретами, писанными обыкновенно профилем. Лицо круглое, огненные серые глаза, седые волосы дыбом. Голова тигра на Геркулесовом торсе. Улыбка неприятная, потому что не естественна. Когда же он задумывается и хмурится, то он становится прекрасен и разительно напоминает поэтический портрет, написанный Довом».
Пушкин, видимо, имеет в виду величественный портрет гиганта в тёмном мундире и живописной бурке. Стоячий красный воротник мундира здесь смотрится как некая живописная подставка пьедестала для мощной головы, головы, вылепленной в традиции древнегреческого скульптурного портрета. И волосы вьются, ниспадая, как облака, с высокого лба и висков, и элегантные бакенбарды осторожными седыми потоками льются по щекам. Над левым выставленным плечом — мощный эполет, похожий на целую скульптурную батарею. Могучая рука опирается на золотую рукоять сабли всей ладонью, сжатой в мощный кулак. Ермолов на фоне грозовых туч, огненных облаков. А ниже — заснеженные горы, ледники, утёсы, водопады. И скалы высятся над ниспадающими прозрачными потоками, стоят, как оцепеневшие великаны. Но все они здесь уступают величию генерала.
«Он был в зелёном черкесском чекмене, — далее живописует Пушкин. — На стенах его кабинета висели шашки и кинжалы...»
Это было в 1835 году, а 25 августа 1812 года Ермолов во главе солдат отбил Курганную высоту у самых знаменитых французских генералов на виду приходящего в бешенство их императора. Бесило императора непоколебимое упорство русских солдат. Да и сам Ермолов писал позднее: «Овладение сею батареею принадлежит решительности и мужеству... необычайной храбрости солдат!»
После этой контратаки полтора часа ещё защищали Курганную высоту русские. Вся свита Барклая-де-Толли влилась в этот величественный бой. Барклай сам порою бросался в пекло одетый при всём параде, как перед смотром. Был он бледен, спокоен и очень расчётлив. Со стороны многим казалось, что так оделся ом, готовясь к смерти, а в бою смерти настойчиво, но спокойно искал. Под ним было убито иль ранено пять коней. В конце концов, видя, что и Раевский уже не в состоянии от контузии сражаться, и солдаты перебиты, а у оставшихся нет больше сил, Барклай приказал сменить корпус Раевского или то, что от него осталось, двадцать четвёртой дивизией Лихачёва, которому Ермолов передал батарею. Сам Барклай был тоже контужен.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: