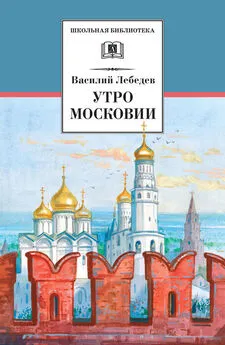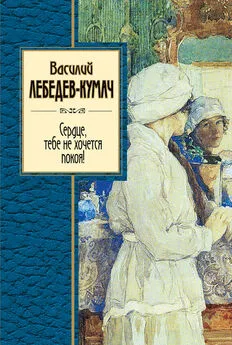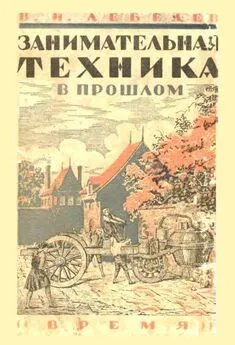Василий Лебедев - Обречённая воля
- Название:Обречённая воля
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Политиздат
- Год:1976
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Василий Лебедев - Обречённая воля краткое содержание
В 1969 году выходит первая книга повестей и рассказов Василия Лебедева «Маков цвет». Книга удостоена премии Ленинского комсомола. Позднее появились книги «Высокое поле», «Жизнь прожить», «Его позвал Гиппократ» и другие.
Повесть «Обречённая воля» — новое слово в творчестве писателя, первое его обращение к исторической теме. Повесть рассказывает о Кондратии Булавине — руководителе восстания на Дону в начале XVIII века. Целью восстания была борьба за волю Дикого поля, но это движение переросло в борьбу за свободу всех угнетённых, бежавших на Дон от чудовищной эксплуатации.
Действие в повести развивается по двум сюжетным линиям. Одна — жизнь булавинской вольницы, т. е. казаков, запорожцев, восставших башкир, другая — царский двор в лице Петра I и его приближённых. Трагический исход восстания наиболее ярко отразился в драматизме судьбы самого Булавина и его семьи.
Обречённая воля - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
«В Саксонии при Карлушке 24 тысячи с лишком конницы. Пехоты — 20 тысяч. В Лифляндии у Левенгаупта с 16 тысяч. В Финляндии у Любекера больше 14 тысяч ещё… Все откормлены, одеты, оружны и готовы пойти на зов этого смелого бродяги…»
…Толпа нищих расступилась под окриками, и Пётр, как по живому коридору, пахнущему кислятиной и паршой отрепьев, вошёл в блестящее лоно древнего собора. Там, в его битком набитой душной пещере, тотчас образовался коридор от входа до царских дверей. На клиросе уже пел хор, но в голове Петра вместе с тоскливыми мыслями о кончине Головина теснились расчёты и соотношения сил врага и его армии, и всякий раз, когда Пётр раскидывал в сознании эти силы — пехоту, артиллерию, драгунские полки, он постоянно учитывал армию Шереметева, двигавшуюся к западным границам после подавления астраханского бунта. Эта армия — казалось ему — как полк Боброка в Куликовской битве, оставалась его надеждой на дополнительный и, быть может, решающий удар…
— Мин херц! А мин херц! — услышал он знакомый шёпот Меншикова. Оглянулся — на светлейшем лица нет.
— Чего тебе? — буркнул Пётр, въедаясь в глаза светлейшего князя, будто ожидая весть о новой кончине близкого человека.
— Худые вести, мин херц…
Пётр резко повернулся, оттолкнул его и устремился к выходу. Меншиков ссутулился и, шевеля широкими, мужицкими лопатками под тонким сукном голубого мундира, спешил за ним. У дверей сначала обалдели, а затем песком рассыпались нищие.
— Говори! — обернулся Пётр, сжав губы так, что ямка на небритом подбородке побелела.
— Мин херц… — Меншиков настороженно обернулся, искоса глянул на царя. — Армия Шереметева… Прискакал гонец с письмом… Вся, как есть, на Дону…
— Что?! — рявкнул Пётр, откинув шляпу и обеими руками вцепившись в мундир князя, в его алую ленту. — Говори!
— …разбежалась…
2
Антип Русинов считал Бахмут потерянным раем, но, оставив курень Булавина в страхе перед Горчаковым, он ещё не знал, что как свет не без добрых людей, так и Дон не без милости. Промыкавшись зиму у староверов, по весне Антип вызнал: за Осиновской станицей строится беглыми людьми городок. Пошёл туда.
Новый городок рос на глазах. В считанные недели весны он так набух беглыми, что жители порешили по казацкому обычаю — на кругу — раздать и удлинить стены. Всего обнесли невысоким земляным валом и сосновым раскатом четверть ста саженей в ширину и около семидесяти в длину. Со стенами мучились долго, но строили с задумкой на будущих беглецов. С весны трудились на новом хуторе-городке одиннадцать семейных и человек тридцать одиноких, или, по-степному, — бурлаков, а в разгаре лета набежало ещё. Городок строился плотно, по-древнему, с узкими улочками, ведь каждая сажень огороженной земли ценилась во сто крат дороже, чем за стеной, в степном дармовом океане. Работа кипела так, будто городок вот-вот ждал нападенья неприятеля. Каждый беглый строил на свой манер. Крестьяне украйных земель делали стены из глины, смешанной с камышом. Люди с севера ставили деревянные высокие срубы с маленькими окошками. Воронежцы, тамбовцы, рязанцы строили всяк по-своему, но всё же с оглядкой на соседей: если нравилась чужая манера — брали лучшее себе.
Антип Русинов едва не угробил свою лошадёнку, пока возил лес на свой дом. На кругу кричали, чтобы не брать лес вокруг городка, вот и пришлось возить за десять вёрст. Построился Антип по-северному — высоко. Крышу крыл, глядя на соседа из-под Бела города, — камышом, но на князьке, на бревно-охлупень поставил деревянного крутошеего коня. Не удержался! Но как всякий хозяин, он мечтал о многих доделках. Хотелось ему и пол сделать из полубрёвен, но материал был ещё сырой, требовал усушки (для себя делал, не для кого-нибудь!), поэтому Антип поставил брёвна в тень для просушки. Потом, как только покрыл крышу, сразу принялся мастерить внутри лавки, стол, стольцы для будущих дорогих гостей. Марья и племянница Алёна с темна до темна крутились около и помогали как могли. В разгар сенокоса затихли топоры. За городком по привольным займищам запели косы. Встали вокруг высокими свежими курганами пахучие стога.
В тот вечер Антип отпустил с покоса жену и племянницу пораньше, а сам целиком взял вечернюю росу, последнюю — больше сена не требовалось. Он один медленно брёл к городишку, ещё не имевшему названья, и испытывал то редкое чувство восторга и тревоги, что неизменно сопутствует большому человеческому счастью. Этот последний поворот в его жизни, этот сказочный, выросший среди степного перелеска городок до сих пор всё ещё казался ему не настоящим, а приснившимся под конец тяжёлого, но обнадёживающего сна, какие снились ему где-то в бегах — в воронежских лесах или в степных балках по Северскому Донцу… Но городок этот был ныне наяву. Два его посада раскинулись по берегам речушки, протекавшей прямо вдоль городка (также было в Бахмуте), впадала та речушка под деревянную стену на заходе, а уходила под стену, прикрывавшую городок с восхода. Ни прибрежных верб, ни тополей, ни лип не тронули беглецы по берегам и вокруг селенья, верилось их растревоженным душам, что деревья укроют в смертный час, спасут…
«Надо бы колоколенку сделать у часовни, — думалось Антипу в тот вечер. — Не ровён час, нападёт какая нечисть, сразу-то и не оприметишь…»
В сумерках он зашёл к атаману, благо тот строился напротив, только стоило перейти мосток. Ещё на подходе к дому Василия Блинова — его-то и выкрикнули в атаманы — Антип услышал песню. С радостью подумал: «Ишь, распевают новгородцы-молодцы!»
Как у нас-то было в матушке каменной Москве,
Что пымали доброго молодца безвинного, без поличного.
Повели доброго молодца на бел горюч камень,
И стали бить доброго молодца безвинного, без поличного.
Стоит добрый молодец — сам не тряхнется,
Его русы кудерюшки не ворохнутся,
Только катятся у молодца горючи слёзы
По его лицу по румяному.
«Звонко сердце у Василия!» — вдруг открылось для Антипа. Он прошёл за дом, шурша щепой в заулке.
Василий Блинов был избран в атаманы единодушно. Этот немногословный новгородец, сумевший вывести из-под славного города всю семью — жену, трёх дочерей и сына, внушал беглому племени уваженье. Он как бы показывал своим примером, что тут можно жить всерьёз, семейно и совсем не обязательно до седых волос шляться в бурлаках.
За углом смолкла песня, и теперь расплёскивалось дребезжанье струн, неуверенное, как бег в потёмках, но вот Василий нащупал мелодию, взял увереннее. «Ивушку затренькал!» — сразу узнал Антип. Он вышел из-за угла.
Под стеной дома, на обрубке бревна, в самых последних отблесках заката, сидел Василий Блинов и играл на домре. Прямо напротив него стояла жена, подперев щёку. Справа примостился сын, вперив глаза в бегающие по струнам пальцы отца, а слева, прямо на ворохе щепок, сидели три дочери-погодки. Увидев Антипа, они ушли в недостроенный дом.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
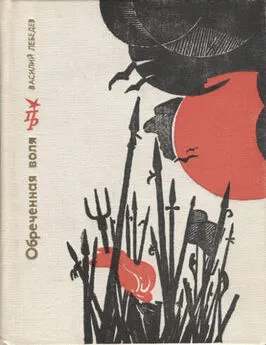

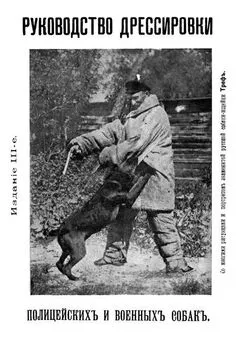
![Василий Лебедев - Золотое руно [Повести и рассказы]](/books/384007/vasilij-lebedev-zolotoe-runo-povesti-i-rasskazy.webp)