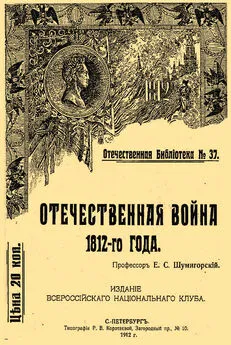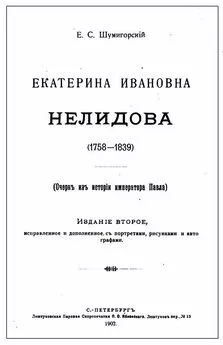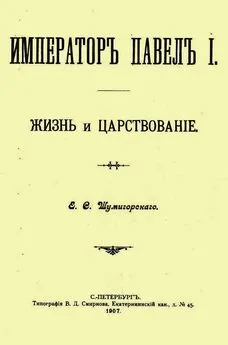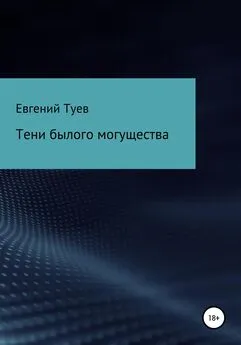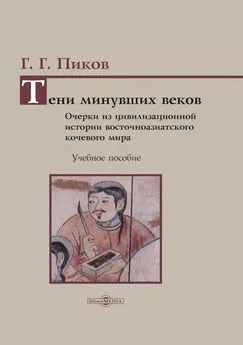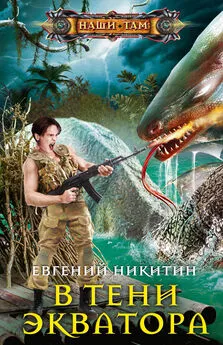Евгений Шумигорский - Тени минувшего
- Название:Тени минувшего
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Типография Товарищества А.С. Суворина Новое Время
- Год:1915
- Город:Петроград
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Евгений Шумигорский - Тени минувшего краткое содержание
В книгу «Тени минувшего» вошли исторические повести и рассказы: «Вольтерьянец», «Богиня Разума в России», «Старые «действа», «Завещание императора Павла», «Невольный преступник», «Роман принцессы Иеверской», «Старая фрейлина», «Христова невеста», «Внук Петра Великого».
Издание 1915 года, приведено к современной орфографии.
Тени минувшего - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Весною 1820 года графиня Анна Алексеевна возвратилась из Петербурга в родную Москву, чтобы встретить здесь Пасху. Принимая целые дни навещавших ее москвичей, графиня вечером обыкновенно уединялась в свой роскошный будуар и там отдыхала от дневной суеты.
«Все здешнее, особенно мирское, мне в тягость, — говорила она — счастливее себя нахожу, когда остаюсь одна и беседую с Богом».
Лишь изредка позволяла она следовать за собою в будуар кому-либо из особо близких ей лиц.
В один из таких вечеров она нашла у себя на столе несколько писем, доставленных ей по почте. Одно из них было от архимандрита Фотия, с которым она только что познакомилась в Петербурге и которого избрала себе в наставники. Слезы выступили у ней на глазах, когда она прочла первые строки его: «Богобоязненная Анна! Как мне не утешаться, что Господь тебя от брака отвел, могущую иметь жениха благородного, первого во граде, зело честного и преславного! Как мне Господа не благодарить, когда по благости Его ты презрела все мирские блага, дабы восприять небесные вполне, все сыпала щедрою рукою, дабы Христа приобрести и умолить Его!» Затем Фотий пространно излагал ей важность соблюдения себя от сребролюбия, греховных игр, карт, маскарадов, плясок, танцев, театров, развратных еретических книг, злых бесед, гордости, тщеславия, хулы, и предписывал «спасение в девстве и посте».
«Боже мой! — воскликнула графиня. — Ведь это все, все они мне говорят с самой кончины батюшки. А я ведь жить еще хочу! Неужели нет и не может быть другого искупления?»
И графиня вспомнила, как граф Михаил Андреевич Милорадович, петербургский генерал-губернатор, суворовский герой, несколько недель тому назад умолял ее отдать ему свою руку, и как она, грешница, едва было не поддалась его мольбам, если бы не пришел к ней на помощь о. Фотий своими советами.
«Да, все они говорили мне одно и то же, — думала графиня — «Император Петр III, Тараканова, дочь императрицы Елизаветы, были жертвами твоего преступного отца, умершего нераскаянным, и он будет в геенне огненной, если ты постом и молитвой не умолишь Христа о его спасении и все богатства, им собранные, не посвятишь на дела богоугодные во спасение его души». А у меня нет сил все исполнить по слову их. Я говорила Фотию: «ах, отче мой, какая я девица, когда в сердце невольно, хотя и редко то со мною бывает, но бывают соблазны и помыслы нечистые; хотя и редко, но должна я украшаться, наряжаться, и все сие для плоти, для видения, для суеты творить; хотя и редко, но должна я и лицо благовонными водами измывать и украшать и помазывать благовонными мастями; хотя и редко, но я должна по образу мира грешною иногда быть». А отец Фотий уверяет, что у меня душа девственная и чистая, а плоть целомудренная. Я ему говорю, что легче для меня оставить все и удалиться в монастырь, где соблазнов нет, а он твердит мне, что там многие ненавидят уединение, боренье со врагом и страстями. Если бы не отец Фотий, я не могла бы жить так, как теперь живу, и впала бы в грех на пагубу души отца моего. О Господи, подай мне силы на подвиги, мне предназначенные, спаси и прости раба твоего Алексея!»
И графиня, упав на колени, долго и жарко молилась пред иконой Спаса Нерукотворенного, сопровождавшей ее отца в походах. Затем она встала и написала Фотию следующее ответное письмо:
«Во истину сегодня была необъяснимая радость, отче мой, получая твое послание премилостивое. Господа ради продолжай питать твое немощное и неопытное чадо, твои святые молитвы делают со мною во-истину чудо. Благодарение Господу Христу, чувствую такое равнодушие ко всему окружающему, что только и прошу Господа Бога нашего, чтобы сие мое состояние продолжалось. О, как мне слова твои о мире и царствии Божием памятны и дороги!»
Вместе с письмом она решила послать на устроение Деревяницкого монастыря, где архимандрит Фотий был тогда настоятелем, 6000 рублей.
Письмо матушки-игуменьи Агнии из тверской епархии поразило графиню изумлением. Игуменья сообщала ей, что к ней в монастырь явились две крестьянских девушки с просьбой о защите от притеснений жестокого помещика, что она помочь им не в силах и потому посылает их прямо в Москву к ее сиятельству. Игуменья заклинала Анну Алексеевну помочь бедным девушкам, уверяя, что дело идет о их жизни. Графиня очень уважала матушку Агнию, и письмо это произвело на нее сильное впечатление. Она, конечно, все сделает для бедных девушек и исполнит данное ей Фотием наставление: «о девица! тебе Господь дал премудрость и крепость; сама себя спасай и иных, то словом, то делом, то духом».
На следующий день, отстояв в домовой церкви своей обедню, Анна Алексеевна перешла уже, в сопровождении своих приживалок, в столовую пить чай, как ей доложили о приходе двух послушниц от игуменьи Агнии, а затем и сами они явились пред графиней. Они бросились ей в ноги и, не произнося ни слова, только горько, горько плакали, не поднимаясь. Больших усилий стоило графине успокоить молодых девушек и убедить их отведать ее хлеба-соли. Красивые, скромные, они произвели на графиню приятное впечатление; но взгляд их выражал такую тоску, такое безысходное отчаяние, что графиня почувствовала, что она не в состоянии будет ни пить, ни есть, пока не узнает от них, чем она может помочь им. Она увела их к себе в кабинет и там, поцеловав обеих, спросила их:
— Ведь о вас, девушки, писала мне матушка Агния?
— О нас, ваше сиятельство, о нас, грешных.
— Милые, я сделаю для вас все, что могу, — сказала графиня — но в чем ваше дело?
Девушки посмотрели друг на друга, и старшая из них проговорила:
— Хотим в монастырь идти, ваше сиятельство, да барин нас не пустит.
— В монастырь? — вскрикнула графиня — такие молодые, хорошие? — И графине стоявшие пред ней девушки сразу напомнили ее собственную судьбу, ее загубленную молодость. — Голубушки, что с вами сталось, что вы в монастыре делать будете?
Одни слезы бедных просительниц были ответом на этот крик сердца Анны Алексеевны. Она обняла их и посадила. Узнала, что их зовут Верой и Еленой Петровыми, что они крепостные помещика Тарбеева, который прижил их с своей же крепостной, Марьей, но причину, которая заставила их желать поступления в монастырь, Петровы долго не решались объяснить. Из их слов Анна Алексеевна сама догадалась о ней наконец и вскрикнула:
— Боже мой, какой грех! Бедные, хорошие мои, надейтесь на меня, не плачьте, все, Бог даст, устроится и без монастыря. А пока вы будете жить здесь, в Москве, у моей знакомой барыни, Алексеевой.
Говоря это, графиня отнимала руки свои, которые Петровы покрывали поцелуями, затем позвонила, велев подать себе карету.
Помещик Иван Николаевич Тарбеев был известен даже в Москве своим богатством. Еще в начале Александровского царствования он служил в одной из губерний вице-губернатором, нажил себе крупное состояние и генеральский чин, а затем вышел в отставку, чтобы отдыхать в тверском своем имении. Его считали «вольтерьянцем» в том смысле, что для него не было ничего святого в жизни. Но он был умен и ловок и, предаваясь всем своим страстям, всегда умел оставаться в пределах закона и выходить сухим из воды. У него было до трех тысяч душ в разных губерниях, и крестьяне его благоденствовали, потому что Иван Николаевич был того мнения, что чем богаче мужики, тем богаче и их помещик. Но его страсть к женщинам часто доводила его, старого холостяка, до преступления. Он не только узаконил у себя в имении jus primae noctis, но и создал у себя гарем, где утонченность разврата связана была с попранием всех Божеских и человеческих прав. О всех красивых девочках-подростках старосты каждого села обязаны были подавать ему «рапорты», и избранных, после осмотра их помещиком, отправляли на барский двор, к особой «мадаме», которая приводила их в приличный внешний вид, учила их танцам и манерам. Более изящные и красивые отдавались в Москву на учение, тоже к «мадаме», в модные мастерские, а самые избранные — даже в пансионы для обучения наукам, рисованию и рукоделиям. Отсюда эти жертвы крепостного права возвращались к Тарбееву, в его гарем. Среди этих девушек были его собственные дочери, прижитые им от крепостных своих любовниц. Его дочерьми оказались и Вера, и Елена Петровы, закончившие свое образование в Москве у «мадамы». Мать их, птичница Марья, тотчас по возвращении их в деревню открыла им тайну их рождения, и велик был ужас девушек, когда Тарбеев обнаружил и по отношению к ним свои гнусные намерения, так как уверен был, что Марья никогда не посмеет, из боязни возмездия, открыть им имя отца. Но Марья не захотела взять на себя греха кровосмешения и тайно от Тарбеева сообщила обо всем игумении Агнии и просила у нее защиты и приема девушек в монастырь, Разумеется, что матушка Агния ничем не могла ей помочь, но посоветовала тотчас отправить дочерей, тайком от Тарбеева, в Москву, к графине Орловой. «Я напишу ей, — сказала добрая игуменья: — а она, святая душа, их выкупит, попомните мое слово. Да хранит вас Господь!»
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
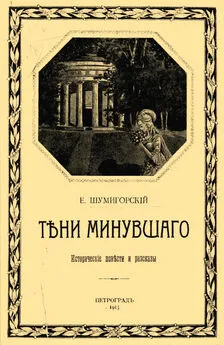

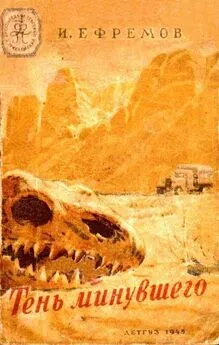
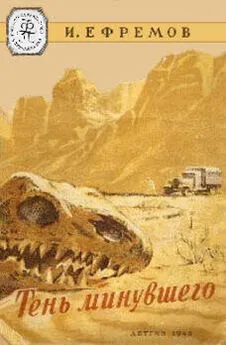
![Евгений Никитин - В тени экватора [litres]](/books/1062075/evgenij-nikitin-v-teni-ekvatora-litres.webp)