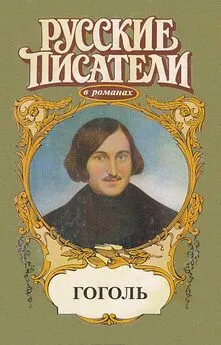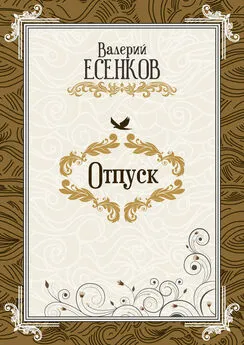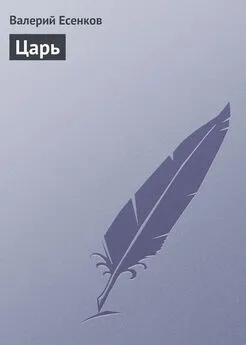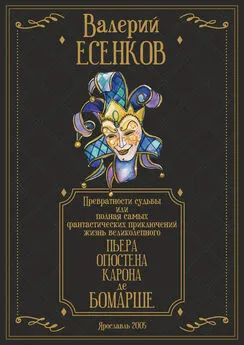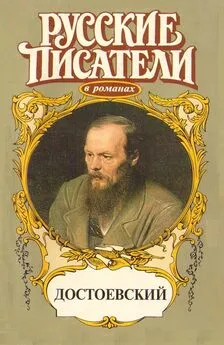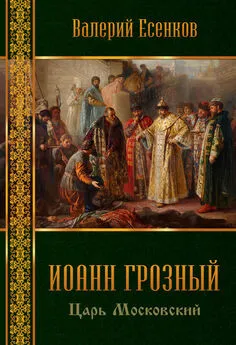Валерий Есенков - Совесть. Гоголь
- Название:Совесть. Гоголь
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Армада
- Год:1998
- Город:Москва
- ISBN:5-7632-0660-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Валерий Есенков - Совесть. Гоголь краткое содержание
Роман ярославского писателя Валерия Есенкова во многом восполняет этот пробел, убедительно рисуя духовный мир одного из самых загадочных наших классиков.
Совесть. Гоголь - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
— Вот поприще, на котором вы ещё не блистали!
Швырнув с сердцем щипцы на решётку камина, Пушкин резко оборотился к нему:
— Не блистал, говоришь?
Вздрогнув отзвуков железного грохота, он заспешил, угадав, что всё-таки, как ни берёгся, сказал что-то невпопад:
— Я вовсе не желаю сочинить комплимент, упаси меня Бог! Я вам только напомнить хочу, что вы знаете сами, то есть что большая часть современных изданий совершенно бесцветна, а между тем общая потребность в здоровой умственной пище очень приметна. Кто, как не Пушкин, может в наше бедное время удовлетворить эту потребность со всей полнотой!
Пушкин глядел на него с укоризной:
— Ты ещё молод, недавно поселился в столице, с нашими журналистами мало знаком, простительно и не ведать тебе, что в наш век журналистикой заниматься всё одно, что в золотарство пуститься, именно так, и не спорь!
Однако, поражённый внезапным этим сравненьем, зная, что не водится мерзкого дела, если не мерзок сам человек, позабыв осторожность и все свои страхи Пушкина оскорбить как-нибудь, он настойчиво и не без горячности возразил:
— Журнал — это живая, свежая, говорливая, чуткая литература, необходимая в области наук и художеств, как для государства пути сообщения, как биржа для расцвета торговли, как для купечества ежегодная ярмарка. Журналистика ворочает вкусом толпы, обращая все выходящее на книжном рынке в ход, что без неё остановилось бы мёртвым грузом для массы читателей. Голос журналистики может быть верным представителем мнений целой эпохи и века, который бы без журналистики безоглядно исчез. Вся беда в одном том, что за журналистику нынче принимаются люди недалёкие или бесчестные, без верного груза значительных убеждений, без ясного и свежего взгляда на жизнь.
Улыбнувшись насмешливо-добродушно, Пушкин сказал с язвительной ненавистью:
— Положим, в самом деле журналистика говорлива. Я даже готов согласиться, что она способна очистить нашу литературу от чего угодно, хотя бы от бесцветности, однако ж очищать эту нашу литературу есть чистить нужники и зависеть в каждом шагу своём от полиции. Того и гляди... Чёрт побери! Да у меня кровь обращается в желчь при одной мысли о надзоре полиции!
Не имея никакого дела с полицией, этой зловонной клоакой всякого общества, однако давно решив про себя, что на то и ум человеку, чтобы любую полицию обойти, он горячо убеждал, тряся головой, сам разгораясь от жара собственной речи:
— Вы только представьте себе, сколько сотен и тысяч людей судят, говорят и толкуют лишь потому, что свои сужденья отыскали в журнале. Да не отыщи они себе подходящего мнения, они бы молчали и вовсе не толковали бы ни об чём, как только о приращении доходов своих, большей частью добытых путями неправедными. И вот у многих из них станет возможность с голоса Пушкина судить обо всём. Согласитесь, что такого рода сужденья полезней и нравственней, чем пробавляться гнусными мыслишками наших продажных писак.
Морщась брезгливо, став совсем некрасивым, Пушкин с негодованием, с краской восстал:
— Да опомнись, и на меня же станут глядеть, как на тех, то есть, другими словами, как на шпиона!
Он мотнул головой и вдруг рассмеялся:
— На Пушкина как на шпиона не станут глядеть, а у нас заведётся единственный настоящий журнал. Я дам статью, две статьи дам! «Коляску» мою помещу! Что, помешу? За честь приму поместить! В журнал Пушкина отдам всё самое лучшее!
Пушкин взглянул на него очень пристально, точно прожёг, однако тяжёлый блеск задумчивых глаз не смягчился, лишь голос... да, пожалуй, голос чуть потеплел:
— Благодарю за «Коляску». Далеко в твоей коляске можно уехать. Ежели до альманаха дойдёт, до журнала тем более, всё возьму, что ни дашь, заплачу хорошо. Ты рукой на меня не маши. Знаю, что не из денег писал, да ведь тебе деньги тоже нужны. В коммерческое предприятие сотрудники вступают только из выгоды. Время, видно, и шестисотлетнему дворянину заняться коммерцией.
Он бормотал, поневоле пряча глаза, радуясь, разумеется, и деньгам:
— Какие там деньги...
Оживая, светлея у него на глазах, Пушкин поднялся и сунул руку в карман своего архалука, точно намереваясь раскрыть кошелёк:
— Нечего мудрствовать, коли должно так поступить. Творчество всё оставлю себе, в журнале стану подёнщиком и тебе, стало быть, как подёнщику заплачу.
Полно, Пушкин, какие подёнщики, журнал та же кафедра, к великому призывать, служить просвещению, научать делать добро, и мысли Пушкина были ему непонятны, может быть, он эти мысли в ту минуту и не хотел понимать, может быть, Пушкин просто шутил, не совсем доверяя ему. Представлялось, что Пушкин самое главное, самое важное хоронит в себе, открытый во всём, нараспашку, да скрытный во всём серьёзном. Невозможного, странного в этом свойстве его он не находил никогда, оттого, может быть, что сам доверительным, откровенным то стеснялся, то не умел быть, да и Пушкин только казался весь на виду, это свойство он уже давно отгадал, однако игра Пушкина именно с ним обижала его, хотя ещё слышалась капля надежды в самой этой кроткой и грустной обиде. Он мысленно убеждал себя, что Пушкин и сам кой-когда играет с собой, изображая на этот раз из себя коммерсанта, а потом, принявшись, по обыкновению своему, горячо за капризное журнальное дело, станет весь тем, кто он есть, именно русским, именно великим поэтом. Он сомневался лишь в том, уживётся ли в Пушкине расчётливый и корыстный предприниматель, каким и должен быть журналист, с тем великим русским поэтом — труднейшая, в сущности, вещь. Сам он был расчётлив и цепок в делах, но предпринимательства ни единой капли не чуял в себе и журнала издавать бы не смог.
Он с недоумением протянул:
— В подёнщики не хочу.
Голова Пушкина упрямо нагнулась, высокий лоб почти без бровей резко выставился вперёд, и стало видно, что негустые курчавые волосы начали редеть, и от этого лоб казался светлее и выше.
Пушкин повёл с досадой плечом и сердито сказал:
— Знаю, ты не понимаешь, как такое возможно. Я и сам не берусь понимать. Однако же с ясностью вижу, что выбора у меня не осталось. Оттого и не хочу понимать. Вместо понимания учусь ремеслу журналиста, как учился бы тачать сапоги.
Он повёл взглядом на оставленный Пушкиным лист — уж не это ли первый урок ремесла, но тут же отдёрнулся, завертел головой и поглядел вопросительно: так ли это, скажи, что не так.
Вскинув голову, Пушкин тоже глядел на него каким-то задумчивым долгим страдальческим взглядом, словно размышляя о том, можно ли положиться на человека, не желающего быть подёнщиком: в самом ли деле подёнщик, не соратник ли сидел перед ним.
От этого взгляда ему становилось неловко и страшно. В ту минуту он был готов поклясться всеми ужасными клятвами ада, что с Пушкиным пойдёт до конца, и всё никак не мог поверить, чтобы всей правдой была та ужасная, быть может, хвастливая мысль о тачании сапог. Известно, каковы сапожники у нас на великой Руси, такое сравнение Пушкина с ними не вязалось, но он угадывал смутно, следя за этим неподвижным страдальческим взглядом, что Пушкина, может быть, раздражало его недоверие, и он кривил рот, силясь спрятать своё недоверие под приличной случаю светской улыбкой, и всё пробовал прятать глаза, и вдруг взглядывал на Пушкина изучающе-пристально.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: