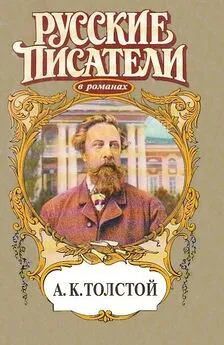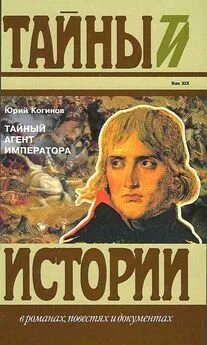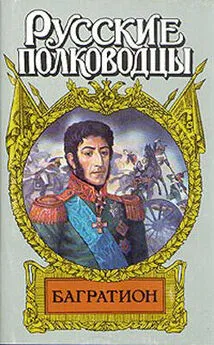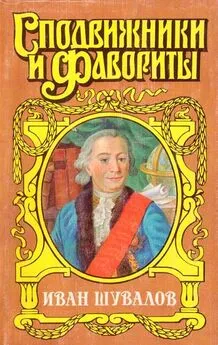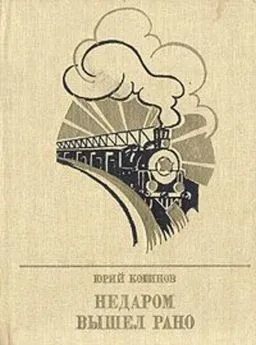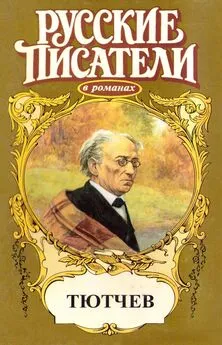Юрий Когинов - Отшельник Красного Рога. А.К. Толстой
- Название:Отшельник Красного Рога. А.К. Толстой
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:АРМАДА
- Год:1999
- Город:Москва
- ISBN:5-7632-0829-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Юрий Когинов - Отшельник Красного Рога. А.К. Толстой краткое содержание
Отшельник Красного Рога. А.К. Толстой - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Не так давно пришло ему в голову назвать Софи Эгерией. Как и жена легендарного римского царя Нумы Помпилия, она для него подлинная советница, наставница и защитница. Но как же он мог в своих увлекательных, самозабвенных скитаниях по Древней Руси забыть о страданиях своей «звезды Ярославны»? Собственные недуги он научился терпеть, но можно ли не думать об усиливающейся бессоннице и больных глазах той, кто ему дороже жизни? И как ни не хочется, но надо укладывать чемоданы. Говорят, в Одессе искусные глазные врачи.
— На этот раз мы поменялись с тобою ролями, — прикрыв глаза от яркого солнца широкими полями шляпы и опираясь на руку мужа, Софья Андреевна мелкими, неуверенными шажками ступала по мощённым камнем тротуарам Одессы.
— И всё же ты — мой вечный и единственный поводырь, Эгерия, — наклонился он к жене. — С тех пор как когда-то вернула меня здесь к жизни.
Солнце светило и грело, наверное, как и в ту, военную, весну. Однако почему-то менее всего вспоминались те дни, когда над ним и его однополчанами витала смерть. Наоборот, в воздухе, казалось, было разлито что-то радостное, лучезарное, будто пронизанное поэзией.
Наверное, родилось это ощущение в первый же день, когда на Дерибасовской они зашли в невзрачную, окрашенную белою клеевою краскою кофейню Перейфера и Толстой обрадованно узнал всё ещё сохраняемый на стене из мягкого одесского камня след от железной палки Пушкина. Сюда каждый день поэт приходил «кафе тринкен», как говорил хозяин заведения, и оставил эту метку для потомков.
А вот два окна на втором этаже дома барона Рено, на углу Ришельевской, из которых, опять же по легенде, высовывалась курчавая голова Пушкина и он кликал стоявших внизу извозчиков, которым оставался должен в дни безденежья.
Толстые сняли комнаты в ришельевской гостинице, содержавшейся Отоном. Здесь порция любого блюда, как раньше, стоила пятнадцать копеек, самые крупные устрицы — рубль за сотню. По сравнению с Петербургом и даже Москвой — дешевизна, хотя заведение Отона считалось самым роскошным. Говорят, и эту ресторацию посещал Александр Сергеевич, также частенько обслуживаемый хозяином в долг.
Отсвет пушкинского настроения лежал на душе, пока гуляли и навещали знаменитых докторов, но враз улетучился и растаял, когда ненароком оказались возле театра.
Ещё несколько дней назад на всех афишных тумбах пестрели слова: «Смерть Иоанна Грозного», драма графа Толстого...» Ныне полицейские чины носились по городу и сдирали последние объявления, свисавшие ещё кое-где как свалявшаяся шерсть на шелудивой собаке.
О запрещении постановки драмы на одесской сцене Алексей Константинович узнал в Красном Роге и тогда же отправил письмо редактору «Одесского вестника»:
«Милостивый государь!
Неоднократно я получаю из Одессы письма, из которых узнаю, что одесская публика негодует на меня за то, что я будто бы просил о запрещении давать в Одессе трагедию мою «Смерть Иоанна Грозного», после того как она была уже несколько раз дана, а директор театра вошёл в значительные издержки на постановку. Считаю долгом для восстановления истины заявить, что не только я не просил о запрещении моей трагедии ни в каком городе, но, напротив, вследствие обращения ко мне некоторых провинциальных театров ходатайствовал в министерстве внутренних дел о разрешении давать эту пиесу в разных городах. К её запрещению в Одессе я нисколько не причастен и очень о нём сожалею...»
«Одесский вестник» письмо возвратил с объяснением, что его нашли неудобным к напечатанию, и Алексей Константинович тут же переправил своё объяснение Каткову, который и тиснул его в своей газете «Московские ведомости».
Казалось бы, случай в Одессе — недоразумение. Но произошла подобная история в Орле, в других городах. А вскоре он, автор, узнал о заседании совета Главного управления по делам печати, на котором «Смерть Иоанна» было решено повсюду в провинции запретить, а «Царя Фёдора Иоанновича» вовсе не принимать к постановке.
— Дураки и черти! — была реакция Толстого на решение цензуры, поскольку ему сообщили о мотивах запрета: трагедии-де подрывают царское достоинство.
Главные действующие лица обеих пьес были разные. Если Иоанн — деспот, узурпировавший верховную власть, то сын его, Фёдор, наоборот, представлял царя, стремившегося действовать по совести и велению сердца.
Собственно, «Царь Фёдор» — это не просто трагедия государя, но прежде всего человека, наделённого от природы самыми высокими душевными качествами при недостаточной остроте ума и совершенном отсутствии воли. Русская сцена наконец-то обрела характер высот шекспировских, но какое дело было до законов искусства директору департамента полиции Ивану Осиповичу Вельо, государственному секретарю Николаю Алексеевичу Милютину и министру внутренних дел Тимашеву Александру Егоровичу, под чьим коллективным давлением и состоялся запрет.
Толстой не сдержался и тут же отправил письмо Маркевичу, зная, что тот не утаит и сделает его мнение достоянием всех петербургских салонов. И пусть! Потому он и подобрал выражения покрепче, чтобы, как говорится, пробрать до печёнок всех самых ярых салонных консерваторов, которые в страхе за свои служебные кресла готовы запретить любую мысль, кажущуюся им опасной.
«Я, как Вы знаете, старый служака, — писал Толстой, — ведь я служил в стрелках императорской фамилии, и я же старый морской волк — я ведь был членом яхт-клуба. Так вот я со всей грубой правдивостью, свойственной и тому и другому, скажу Вам, что Ваши салонные консерваторы — г консерваторы. Вам известно, что я ненавижу всё красное, но чёрт меня побери — тысяча дьяволов и три тысячи проклятий! — если в какой-нибудь из моих трагедий я собирался что бы то ни было доказывать. В произведении литературы я презираю всякую тенденцию, презираю её как пустую гильзу, тысяча чертей! — как раззяву у подножия фок-мачты, три тысячи проклятий! Я это говорил и повторял, возглашал и провозглашал! Не моя вина, если из того, что я писал ради любви к искусству, явствует, что деспотизм никуда не годится. Тем хуже для деспотизма! Это всегда будет явствовать из всякого художественного творения, даже из симфонии Бетховена. Я терпеть не могу деспотизма, так же как терпеть не могу... Сен-Жюста, Робеспьера... Я этого не скрываю, я это проповедую вслух, да, господин Вельо, я это проповедую, не прогневайтесь, господин Тимашев, я готов кричать об этом с крыш, но я — слишком художник, чтобы начинять этим художественное творение, и я — слишком монархист, да, господин Милютин, я — слишком монархист, чтобы нападать на монархию. Скажу даже: я слишком художник, чтобы нападать на монархию. Но что общего у монархии с личностями, носящими корону? Шекспир разве был республиканцем, если и создал «Макбета» и «Ричарда III»? Шекспир при Елизавете вывел на сцену её отца Генриха VIII, и Англия не рухнула. Надо быть очень глупым, господин Тимашев, чтобы захотеть приписать императору Александру II дела и повадки Ивана IV и Фёдора I. И, даже допуская возможность такого отождествления, надо быть очень глупым, чтобы в «Фёдоре» усмотреть памфлет против монархии. Если бы это было так, я первый приветствовал бы его запрещение. Но если один монарх — дурен, а другой — слаб, разве из этого следует, что монархи не нужны? Если бы было так, из «Ревизора» следовало бы, что не нужны городничие, из «Горя от ума» — что не нужны чиновники, из «Тартюфа» — что не нужны священники, из «Севильского цирюльника» — что не нужны опекуны, а из «Отелло» — что не нужен брак...»
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: