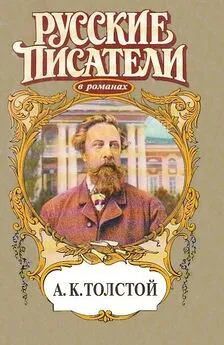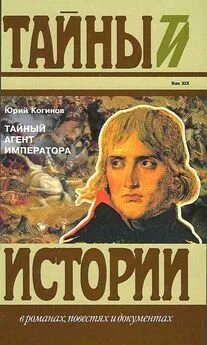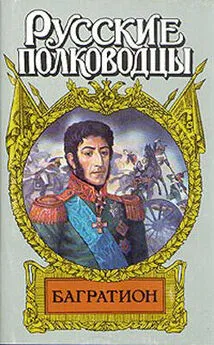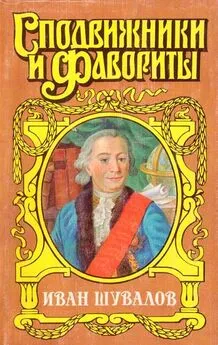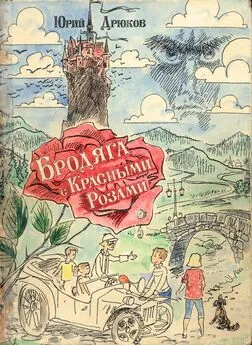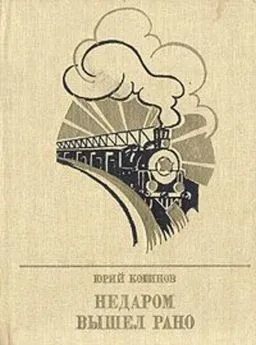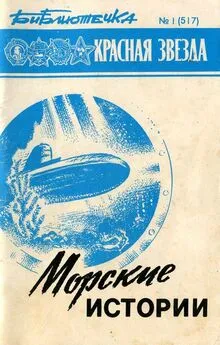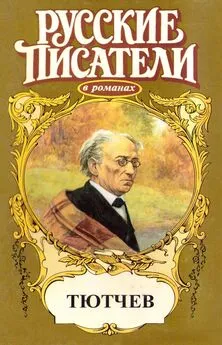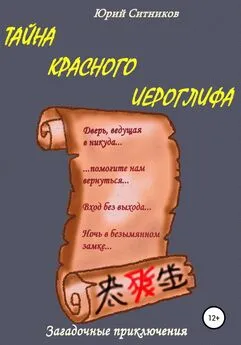Юрий Когинов - Отшельник Красного Рога. А.К. Толстой
- Название:Отшельник Красного Рога. А.К. Толстой
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:АРМАДА
- Год:1999
- Город:Москва
- ISBN:5-7632-0829-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Юрий Когинов - Отшельник Красного Рога. А.К. Толстой краткое содержание
Отшельник Красного Рога. А.К. Толстой - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Девятнадцатого декабря отряд достиг наконец эмбинского укрепления, употребив на пятисотвёрстный переход тридцать четыре дня и оставляя за собою роковой и страшный след — невысокие снеговые холмы над умершими людьми и круглые горки нанесённого метелями снега над павшими верблюдами.
Поистине героическим явился этот переход. Обилие снега оказалось так велико, что положительно все овраги, даже самые глубокие, были занесены доверху, так что приходилось употреблять самые невероятные усилия для переправы тысяч верблюдов и лошадей с их вьюками и колёсными фурами. А чтобы перетащить через эти снеговые бездны пушки, солдаты настилали поверх сугробов понтонные мосты и по ним перевозили орудия.
А ведь поход проводился не с кондачка, к нему готовились, можно сказать, не месяцы — годы. Сам военный губернатор Перовский прослужил к тому времени в крае шесть лет и за этот срок хорошо изучил природные условия и людские возможности. И зимняя пора им и его помощниками — генералами и офицерами — была выбрана не случайно: летом через выжженную солнцем степь совершить полуторатысячевёрстный поход было решительно невозможно из-за нестерпимого азиатского зноя, бескормицы для животных и отсутствия воды. Многолетние наблюдения за погодой утверждали, что зимы в степи почти бесснежные, морозы слабые и достичь центра Хивинского ханства будет нетрудно.
Совершить же поход и принудить хана Алла-Кула к повиновению Перовский решил с тех пор, как вступил в права военного губернатора и командующего отдельным Оренбургским корпусом. На протяжении десятилетий жестокие и коварные орды вооружённых кочевников, как ветер из неоглядной степи, налетали на русские мирные селения и войсковые части и забирали с собой в полон женщин, детей и даже сильных мужчин, которых затем продавали в вечное рабство на невольничьих рынках Хивы.
Россия стала в оренбургских степях форпостом, чтобы торговать с азиатскими народами и охранять многие племена, принявшие её защиту и покровительство. От набегов хивинцев страдали местные татары, киргизы, казахи. Перовский, думая о безопасности края, распорядился возвести укрепления по всей пограничной линии. Быстро были сооружены укрепления Наследницкое, Константиновское, Николаевское и Михайловское с редутами между ними для помещения там кордонной стражи из казаков и башкир. Между редутами же были устроены частые пикеты из десяти или пятнадцати казаков с сигнальными шестами, обвитыми соломой. Стоило показаться в степи налётчикам, как запалённые шесты, точно маяки, извещали о тревоге все посты и укрепления. Однако и эти меры не гарантировали полного спокойствия — из-за Сырдарьи, из глубины степей каждодневно мирной жизни сотен людей угрожало вероломное, не идущее ни на какие переговоры Хивинское ханство.
Добиться разрешения идти в Хиву, чтобы освободить томящихся в неволе заложников и пленных и наказать коварных захватчиков, оказалось не так просто. Военное министерство и всё окружение императора, особенно так называемая «немецкая партия», противились предприятию. Тут сказывалась и присущая российской политике неповоротливость, и, как её следствие, осторожность и робость, нежелание и подчас неумение глядеть вперёд. А с другой стороны, имели значение личные отношения к Василию Алексеевичу.
Ещё в тот день, когда он, только что произведённый в адъютанты великого князя, на глазах у Жуковского выказал строптивость и нежелание пробавляться тем, что с барского стола, он отчётливо понял: карьера приближённого к трону не для него. Нет, он выполнил свой долг, помчался тогда по весенним размокшим дорогам в Молдавию, где при войске находился император Александр, чтобы сообщить ему о появлении на свет великого князя Александра Николаевича, племянника царя. И вовсе не полковничьи эполеты привёз от государя — произведён был спустя какое-то время в капитаны, иначе — просто получил очередное звание, хотя в глазах искательной и завистливой толпы он уже стал счастливчиком и фаворитом.
Никогда ни один человек, тем более группа, общество не прощают тому, кто поступает не так, как все. Хозяин, которому ты служишь, ещё не всё — есть целый сонм хозяйчиков вокруг, коих ты должен отличать, помнить, что и они что-то значат, ни в коем случае не говорить им своим поведением: «Я — сам по себе, я иду по жизни, лишь надеясь на собственные силы и способности», — «А мы, выходит, существуем и продвигаемся за чей-то чужой счёт, мы — не службой, а услужением, не умом, а хитростью?»
Первым подал знак, что Перовский будто чужой в их стае, генерал-адъютант Бенкендорф Александр Христофорович, человек с нюхом отменным, повадками лисьими. Сигнал был дан, когда на театре русско-турецкой войны полковник Перовский полез в пекло, всё иное окружение царя осталось же паркетными шаркунами. И тут уж наглядно вышло — кому и за что адъютантам императора генеральские эполеты: одному за рану и подвиг на поле боя, а иным?..
Сразу после войны Николай Павлович стал пристраивать послуживших ему личных адъютантов, так сказать, к самостоятельному поприщу. И выпало Владимиру Фёдоровичу Адлербергу занять пост директора канцелярии начальника Главного штаба, Перовскому — управляющего канцелярией морского министерства. Адлерберг воспринял назначение как высокую милость. Ещё одна-другая ступенька, и кто знает, куда вознесёт судьба, только не быть строптивым, а исполнительным, прилежным и — всегда на глазах.
Перовский оскорбился царской милостью, он вдруг решил, что государь таким приёмом отстраняет его от себя, отправляя под начало великого князя Михаила Павловича.
В сём деле, думается, свою роль сыграло многое. Наверное, и сам император считал такое продвижение наградой — ведь дал же он подобный пост и Адлербергу. Вероятно, и князь Ментиков, назначенный управляющим морским министерством, у которого под Варной Перовский был правой рукой — начальником штаба корпуса, да и сам «Рыжий Мишка» — шеф считали удачей заполучить в своё ведомство умного, прямодушного и к тому ж по-настоящему боевого молодого генерала. Василий же Алексеевич счёл такой ход оскорблением. Он вмиг выпросился в отпуск, уехал в Вену к дяде, Андрею Кирилловичу Разумовскому, и оттуда написал Жуковскому:
«Прежде, нежели направлю свои шаги в Петербург, хочу знать, на какой ноге придётся мне там стоять? Когда я уезжал из России, великий князь думал, что будет весьма трудно заменить меня в должности правителя канцелярии; я знал, что он ошибается и что скоро переменит мнение. Поэтому, если я теперь, возвратясь, сяду на своё место, не говоря ни слова и не объяснившись, великий князь может подумать, что я нахожусь на свой счёт в том заблуждении, из которого он уже вышел и в котором я никогда не был. Итак, я написал ему (текст моего письма, если хочешь, можешь видеть у Адлерберга): я подозреваю, что не гожусь более в правители канцелярии, и знаю наверное, что в таком случае не годен ни на что другое... Моё настоящее расположение и всегдашняя наклонность влекут меня из службы; а некоторые обстоятельства и некоторые люди понуждают и советуют ещё в ней остаться; но быть лишним, бесполезным я не соглашусь: я прошусь в отставку — и прошусь весьма убедительно; откажут — это будет мне лестно, но не весьма приятно; согласятся — будет приятно, но не так лестно. Но я предпочитаю приятность без лести, лесть — без приятности. Притом же двор я никогда не считал для себя надёжною пристанью; всегда был готов поднять якорь и распустить паруса, прежде чем морской ветер разобьёт меня о берег или же береговой выгонит насильно в море...»
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: