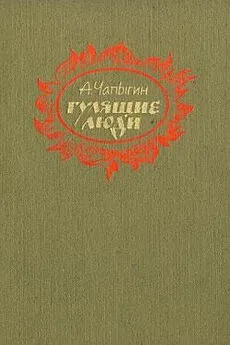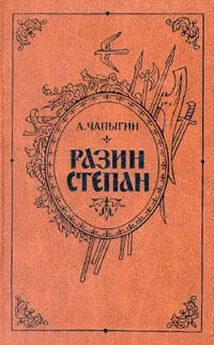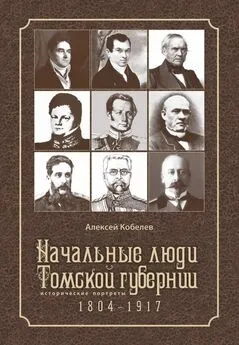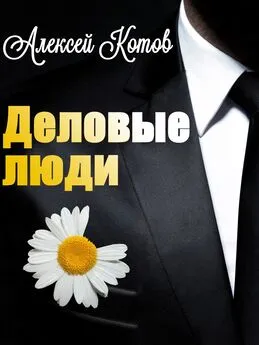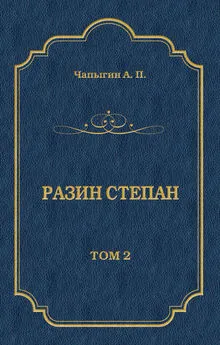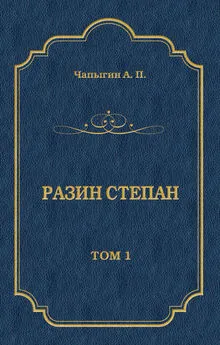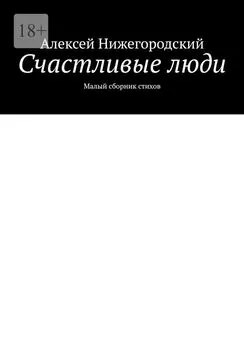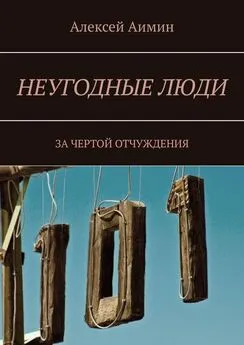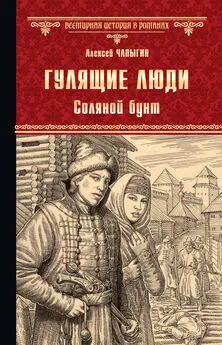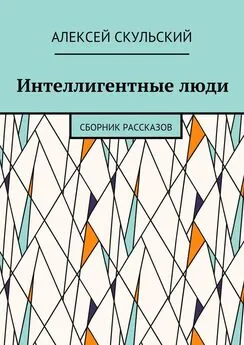Алексей Чапыгин - Гулящие люди
- Название:Гулящие люди
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Московский рабочий
- Год:1984
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Алексей Чапыгин - Гулящие люди краткое содержание
А. П. Чапыгин (1870—1937) – один из основоположников советского исторического романа.
В романе «Гулящие люди» отражены события, предшествовавшие крестьянскому восстанию под руководством Степана Разина. Заканчивается книга эпизодами разгрома восстания после гибели Разина. В центре романа судьба Сеньки, стрелецкого сына, бунтаря и народного «водителя». Главный объект изображения – народ, поднявшийся на борьбу за волю, могучая сила освободительной народной стихии.
Писатель точно, с большим знанием дела описал Москву последних допетровских десятилетий.
Прочитав в 1934 году рукопись романа «Гулящие люди», А. М. Горький сказал: «Книга будет хорошая и – надолго». Время подтвердило справедливость этих слов. Роман близок нам своим народным содержанием, гуманистической направленностью. Непреходяще художественное обаяние книги.
Гулящие люди - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
– Да вот, как мекал ты, так оно и изошло – все она со своими убогими… приволокла-таки падаль в дом, погибель всему добру и жисти…
– Божья кара… – глухо завешенным ртом с трудом сказала Секлетея, – погибаем за грехи антихристовы… – Помолчала кратко, прибавила: – Тебя, сын Семен, прощаю! Никона беги, борони душу!
– Ушел от Никона! Не он повинен в вашей смерти.
Сенька двинулся ближе, но из темного угла, разжегши кадило, разогнулся черный поп, помахал, дымя и посыпая искрами кадила, на Сеньку, проговорил:
– Не иди! Кончина их близко.
Сенька заплакал. Повернувшись, пошел на двор. Темнело, идти было некуда, но и в доме лечь спать он боялся. Нашел в конце двора у забора сарай, Лазарь Палыч хотел его срыть, мать не дала. В сарае том она укрывала, ежели была какая тревога, раскольников.
Крыша того сарая по толстому слою дерна поросла травой, бревна снаружи позеленели, а изнутри поросли мхом. На стене сарая, но не в самом углу, а около, висел черный образ спаса древнего письма, к низу образа прилеплена восковая свеча, под образом две скамьи – на них затхлая солома.
Сенька срыл солому на середину сарая, наломал в конюшне у яслей перекладин и загородок, принес и запалил огонь, скинул армяк, вынул из-за ремня пистолеты, отстегнул шестопер, подостлал кафтан, сел на скамью, стал пить табак из рога. Рог с табаком бережно хранил завернутым в ирху. [127]
Он курил и слушал. Было тихо, но к полуночи затопали по лестнице в горенку, и послышалось, будто кто-то читал молитву.
– Поп божедомов послал хоронить!
Спустя часа два или больше снова топали по лестнице, но осторожнее, и слышал Сенька многие шаги по горницам повалуши и клети.
– Грабь все, только берете, лихие, на лихо вам! Как-то, проходя по Москве, Сенька слышал говор:
– Лихие люди могилы с мертвыми роют – берут одежу!
– Ведомо так! Потому Волынской боярин да Бутурлин указали одежу ту палить огнем…
Мало спал Сенька. Утром вышел, не надеясь больше зреть родной дом.
Пробираясь за город мимо караулов городской черты, вышел за земляной вал, подошел к церкви. Какая была та церковь – не знал и не спрашивал, только в ней не было колод с мертвецами и больных не видно было, которых привозили к церквам на покаяние. Зато у церкви собралось нищих с добрую сотню. Они спорили меж собою, дрались и лгали:
– Вы нищие не наши – вы Васильевские [128]! – кричала старуха четырем оборванцам.
– Врешь, дьяволица! Мы вчерась туто стояли, да тебя, вишь, не было…
– А теи воно успенские! [129]
– Коли успенские, так тех гони, а мы тутошние!
– Ужо вас побьют Христа для, вы и скажетесь откелешные! Нищие лезли из центра к окраинным церквам, полагая, что черная смерть не сыщет их, а она сторожила бродяг, прячась в их лохмотьях.
Уходя из Москвы, Сенька знал, что встреча с нищими была последней.
«Завтра буду в Коломне!»
В слободе, на берегу реки Коломенки, среди мелких домишек уселся двухэтажный деревянный дом с искривленными временем дверьми и окнами…
Тот большой дом дворянина Бегичева Ивана Трифоновича, захудалого, а в прежние времена богатого и хлебосольного. Дом Бегичева с садом, с большим двором и во дворе, обнесенном тыном, с гнилыми избами, сараями, мыльней, поварней и даже псарней, в которой давно уж перевелись собаки. Дворни у Бегичева много, только вся она голодна и ободрана.
Сегодня, в половине октября, хозяин зазвал гостей, которым за обедом решил прочесть цедулу, написанную им в укор и свое оправдание к боярину Семену Стрешневу.
Но гости, зная былую любовь и нынешнее нелюбье Стрешнева к Бегичеву, не поехали, а может быть, и потому не пожаловали гости, что знали наперед скудость в яствах прежнего хлебосола.
«Слова у него велегласные, да щи постные!» – думали все, кроме кабацкого головы и старого протопопа, – эти двое к Бегичеву пришли пеше.
Голову Прохорова зазвал Бегичев ради своей корысти: самого его думают выбрать головой кабацким, а дела того Бегичев не знал, да еще и солдат боялся, кои всю Коломну заполонили, – так до-тонку распознать, чтоб…
Протопопа зазвал хозяин затем, что без лица духовного никакой пир не живет.
В ожидании обеда гости угощались водкой. На многих тарелках оловянных была разложена политая постным маслом редька, резанная ломтиками, переложенная кружками резаного лука.
Стол длинный, дедовский, на точеных круглых ножках, дубовый, скатерть сарпатная, с выбойкой синих петухов. Тарелок с закуской и водки довольно, а на двоих гостей даже чрезмерно.
Говорить о кабацком деле хозяин не торопился, при протопопе даже и невозможно.
Протопоп сидел по чину под божницей в углу, голова рядом с ним, и меж собой негромко беседовали.
Сам хозяин не садился, пил с гостями стоя и, наскоро закусив, выходил в другую комнату с такой же убогой мебелью, как и эта: по стенам голые лавки, правда, чисто вымытые. Кругом стола для гостей скамьи, крашенные в бордовый цвет. Над одним из окон полка с рядом медных подсвечников с сальными свечами – на случай, если день помрачится.
– Медлят-таки с обедом! – сказал Бегичев и, выпив с гостями, снова пошел глянуть в окно: «Не едут ли иные кто?»
Выйдя в другую комнату, увидал человека, молящегося усердно в угол малому образу Николы. Человек длинноволосый, бородат изрядно, в левой руке дьячья потертая шапка с опушкой из лисицы.
Помолясь, ломая спину углом, человек Бегичеву низко поклонился.
– По-здорову ли живет почетный дворянин Иван сын Бегичев? – сказал незнакомый и левой рукой погладил бороду.
Бегичев, разглядывая, когда молился человек, не мешал, молчал, теперь же строго спросил:
– Спасибо, человече, но кто пропустил тебя в мои дедовские чертоги?
– Прошу прощения! Сам я, не видя твоих рабов, зашел и с тем явился, что слышал – искал ты борзописца искусного, так и буду я таковой…
– Так, и еще тако… борзописец ты? Хе! Борзописец мне не надобен – сам я бреду рукописаньем с младых лет, а вот не дано мне росчерком красовитым владеть.
– Потребен тебе писец, так росчерк мой полуустав, надо и скоропись – вязь с грамматикой, с прозодией…
– Добро! Только в цене за твое рукописанье сойдемся ли?
– В этом мы сойдемся! Што положишь – приму… не от нужды пришел к тебе, а так – люблю чинить послугу доброму дворянину, ты есть таковой – слава о тебе идет.
– Ну ин, милости прошу в горницу к столу! Пропустив впереди себя пришедшего, Бегичев покосился последний раз в окно, решив:
– Возгордились! Не удостоят…
Здесь, как и в первой горнице, человек дьячего вида помолился на образа, шагнув к лавке, положил на нее шапку и чинно, не без достоинства, перед тем как сесть, поклонился особым поклоном протопопу, потом голове. Хозяин налил ему стопу водки, он, приняв стопу, встал, сказал:
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: