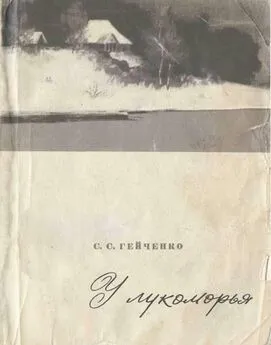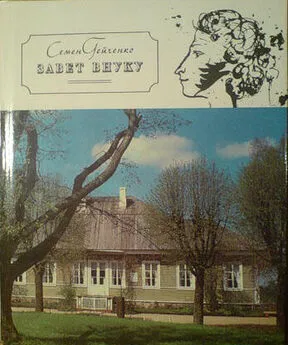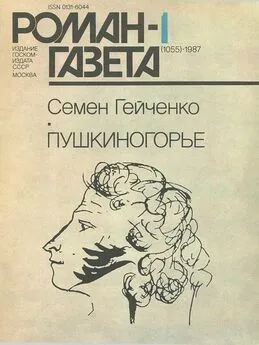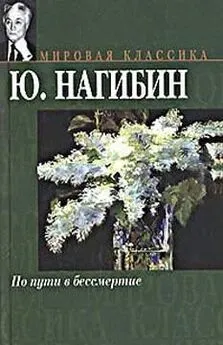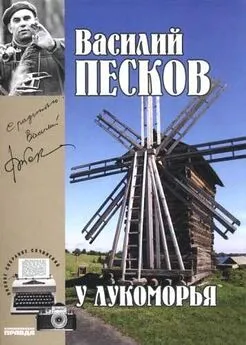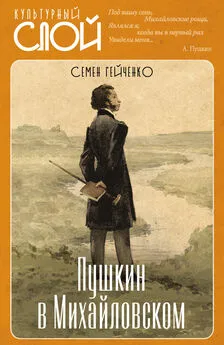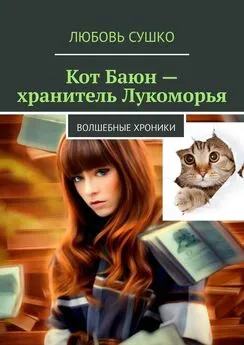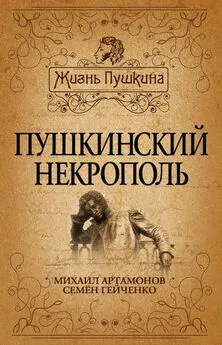Семен Гейченко - У Лукоморья [5-е изд.]
- Название:У Лукоморья [5-е изд.]
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Лениздат
- Год:1986
- Город:Л
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Семен Гейченко - У Лукоморья [5-е изд.] краткое содержание
Настоящее издание «У Лукоморья», как и предыдущие, дополнено новыми рассказами, а также рисунками энтузиаста пушкинских мест — художника Василия Михайловича Звонцова.
У Лукоморья [5-е изд.] - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
В русской народной песне слово «дуб» — одно из любимых. Достаточно вспомнить: «Среди долины ровныя, на гладкой высоте, растет-цветет зеленый дуб в могучей красоте...»
Русская песня любовалась дубом. Он в ней всё — краса и гордость, величие и вечность и «русский дух».
Любуемся и мы им, когда проходим по следам города, с именем которого Пушкин сделал свой «запев» на заглавной странице рукописи «Бориса Годунова»: «Писано бысть Алексашкою Пушкиным в лето 7333 на городище Ворониче...»
Не все обычаи старины сегодня исчезли. Приятно и радостно видеть, как здешние сельчане встречают весенние дни. Любят они жечь ночью костры. Они горят как сигналы. Вот загорелся костер жителей деревни Дедовцы, а вот ответный огненный знак деревни Зимари. Им отвечают своими огнями Батово, Вече, Белогулье, Косохново... Огни мерцают, как звезды в небе. Но вот приходит миг и возжигается огонь у «Михайловского лукоморья»... По всему горизонту, на всех холмах — костры, огни, огни... Повсюду огненный благовест — «на земле мир и людям благоволение». Как и встарь, огонь сигналит всем: «Эй, славяне, ворончане, пушкиногорцы, люди русские, живые, молодецкие — будьте живы, живы, живы! Многая вам лета! Берегите свою землю, свою Родину, свою старину, свои добрые обычаи, торжественно встречайте свои праздники Весны, Победы, Жизни и Труда. Они несут вам благодать, хлеб насущный! Будьте крепки, как «дуб заветный» на Ворониче».

ЧУДО-ЮДО
На одном из небольших холмов, что раскинулись вокруг Луговки — самой старой деревушки Святогорья, стоит чудо-юдо камень. Не камень, а кит. Он поставлен здесь несколько лет тому назад среди других замшелых валунов, исстари опоясывающих холм. Нашел я этого «кита» в деревне со странным названием Мараморы. Лежал он, зарывшись глубоко в землю, на месте теперешнего загона для колхозного стада, и только нос камня торчал на поверхности. А когда камень выкопали, он представился как колоссальный валун, объемом свыше 20 кубометров. На спине валуна выбит сложный знак в виде двенадцати круглых, соединенных между собою чаш. Привезли его и поставили поближе к заповеднику, чтобы сохранить и чтобы люди могли увидеть.
Пушкинский край — край камней. Самых разных. Это и просто красивые серые, красные, черные валуны, живописно возлежащие со времен сотворения мира на полях, в лесах, возле троп и дорог. Это и камни со следами рук человеческих. Еще недавно находили на пушкинской земле древние камни с таинственными, доселе не распознанными наукой знаками. Теперь этих камней почти не стало, сохранилась лишь память о них у старожилов. Одни камни шли на постройку помещичьих усадеб, дорог, ферм, другие погибли в годы фашистского лихолетья. Уничтожен камень со знаком первобытного человека, лежавший на вершине белогульского «городка» Исаака Ганнибала, бесследно исчез «святой» камень у речки Луговки...
Я изъездил и исходил пушкинскую землю вдоль и поперек. Побывал и в тех местах, где некогда были таинственные камни. Места эти изолированные, потаенные, то среди болот, то в лесах.
Камень-кит, по свидетельству ученых-специалистов,— это жертвенный святилищный камень древнейшей эпохи. Вокруг таких камней люди совершали моления и жертвоприношения.
Название места, где находился наш камень,— Мараморы. Оно, несомненно, происходит от слов «мара», «марок», «мароки»,— это значит «наваждение», «призрак», род домового или кикиморы. Так объясняется это слово у Даля.
Теперь таких камней, как мараморский, на всей Псковщине не отыщешь. Есть схожий в Эстонии, около Тарту. Эстонцы гордятся им как одним из самых старых памятников своей родины.
Есть в нашей деревне Софино камень со знаком человеческого следа, был такой же камень полста лет тому назад и у деревни Луговки, расположенной у западной границы Михайловского. Почитание таких камней — явление, уходящее в глубь веков. След олицетворял силу и покровительство неба. Следу поклонялись, идучи на охоту, возле него вымаливали добычу, приносили дары и жертвы...
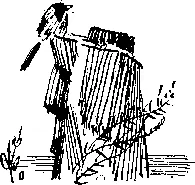
С распространением христианства на Руси попы и монахи стали приспосабливать к своим целям старые языческие культы, символы и знаки. Появляются легенды о божьих стопах, следах Христа, богородицы и разных угодников божьих. Такие камни служители церкви объявляли святыми, атмосферную воду, накапливавшуюся в следах, — целебной. Возле таких камней ставились часовни. Стояла часовня и у древнего праславянского камня у деревни Луговки, на котором был знак человеческой ступни.
Легенда о чудесном явлении богородицы, которая якобы указала ворончанам строить новую обитель-крепость на Синичьих горах, рассказывает: узнав, что не все ворончане согласились с ее указанием, богородица поспешила на помощь своим верным слугам к месту, где надлежало построить монастырь. Перепрыгивая через речку Луговицу, она споткнулась о камень и оставила на нем след своей стопы. Монастырское сказание, рукопись которого хранится в Библиотеке Академии наук УССР, утверждает, что, увидев сие чудо, «начашася исцеления»: «...и егда людие доидоша до реце... на том месте начаша чюдотворения быти и исцеления... хромые хождашу радостные... древяницы (костыли.— С. Г.) от ног меташа... и исцеления быша великие...»
Спустя какое-то время над местом языческого луговского камня, объявленного монахами богородичным, была построена часовня, возле которой были учреждены молебствия, проходившие ежегодно во время крестного хода из Воронича в Святые Горы и Псков. Кстати, об одном из таких крестных ходов рассказывает П. А. Осипова в своем письме к поэту 24 июня 1831 года. Мимо Луговки часто проходил и проезжал сказочник Пушкин, направляясь в Святые Горы, и, несомненно, видел часовню и камень.
ПРОЩАЛЬНАЯ ЭЛЕГИЯ ПОЭТА И РЕЛИКВИИ ЕЕ
Осень 1835 года была для Пушкина печальна и грустна. Он приехал в Михайловское 10 сентября, чувствуя сердцем, что здесь он, вероятно, в последний раз.
В эти дни он написал элегию «Вновь я посетил...» — глубокое раздумье о своей участи, о покорности общему закону бытия, об уходящей жизни. Он видит знакомые места, которые любил с детства, видит старое, на смену которому неудержимо идет новое. Он беседует с собой, со своим читателем, протягивает руку «племени младому, незнакомому»...
Поэт напоминает нам, что в жизни каждого человека некоторые истины постигаются дважды: первый раз, когда он молод, я вторично, когда накопил мудрость и жизненный опыт. «Вновь я посетил...» — стихотворение неоконченное. Быть может, Пушкиным сделано это сознательно, чтобы мысль читателя работала дальше. Он хочет, чтобы грядущее поколение помянуло его добрым словом. А чтобы его помнили, нужно оставить по себе добрую память. Ибо дорого человеку лишь то, что он сделал добро и любо, особенно то, что далось ему нелегко. И каждый человек должен стремиться оставить после себя хороший след своими делами, своим трудом, своим творчеством... Таков высокий смысл элегии.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
![Обложка книги Семен Гейченко - У Лукоморья [5-е изд.]](/books/1146653/semen-gejchenko-u-lukomorya-5-e-izd.webp)