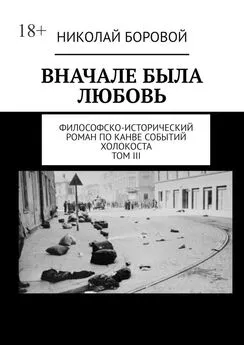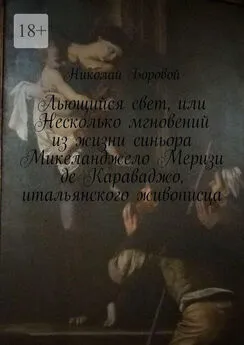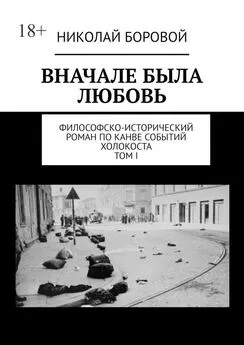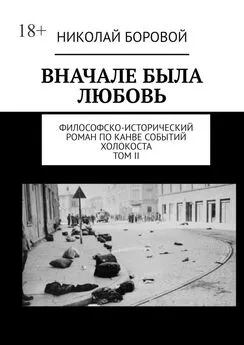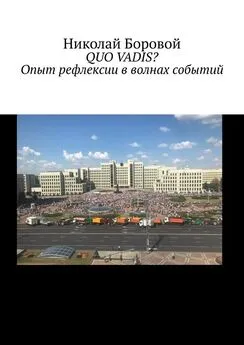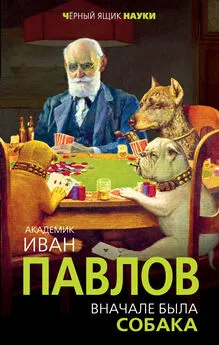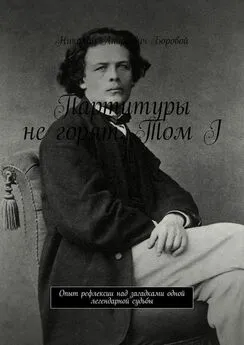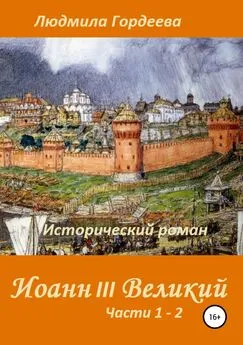Николай Боровой - ВНАЧАЛЕ БЫЛА ЛЮБОВЬ. Философско-исторический роман по канве событий Холокоста. Том III. Главы XII-XXI
- Название:ВНАЧАЛЕ БЫЛА ЛЮБОВЬ. Философско-исторический роман по канве событий Холокоста. Том III. Главы XII-XXI
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:9785005507129
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Николай Боровой - ВНАЧАЛЕ БЫЛА ЛЮБОВЬ. Философско-исторический роман по канве событий Холокоста. Том III. Главы XII-XXI краткое содержание
ВНАЧАЛЕ БЫЛА ЛЮБОВЬ. Философско-исторический роман по канве событий Холокоста. Том III. Главы XII-XXI - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Барон фон Гох попрощается с Войцехом и Магдаленой, спасенной им парой на набережной, в самом центре. Они, ставшие за полторы недели чуть ли не родными, будут прощаться долго и сентиментально… В какой-то момент Войцех со всей ясностью поймет, что же на самом деле сумел сделать для них этот человек… Ведь очевидные вещи потому и называются нами так, что мы редко доходим до осознания истинного, кроющегося в них смысла, зачастую – бесконечного и неохватного умом… И слова «спас жизнь» и вправду могут оказаться до какого-то момента банальностью… пока их смысл вдруг не будет по настоящему прожит, прочувствован, схвачен умом и душой. И вот, когда на набережной озера это произойдет с Войцехом и он поймет, что их с Магдаленой жизнь, еще несколько недель перед этим висевшая на волоске от самой страшной и унизительной гибели, теперь спасена, он вдруг из каких-то глубин юности вспомнит древний обычай его религиозных предков… И во время рукопожатия с бароном, будучи выше того на полторы головы и в два раза массивнее, вдруг схватит крепко его ладонь обеими руками и сначала поднесет к груди, а потом склонится и поцелует несколько раз пальцы. Это придет наитием, в порыве души и желании выразить то, что уже не дано передать никакими словами, и древний жест как-то сам собой всплывет из глубин памяти и придет на помощь. Барон конечно прервет это и всё закончится крепкими и долгими, искренними объятиями, которые редко бывают и между очень дружными, хорошо знающими друг друга людьми. Видя, что и ему, и двум спасенным им людям, очень трудно расстаться, барон еще раз крепко пожмет руку спасенному им профессору Житковски и произнесет с силой и убежденностью – «я верю, дорогой профессор и пани Магда, что мы еще обязательно встретимся с Вами!». А после повернется и решительно, быстро зашагает к оставленной невдалеке машине…
Увы – этому не суждено будет сбыться.
Барону фон Гоху еще два раза удастся побывать в Кракове по делам антифашистского сопротивления, встретиться со старым другом, ректором Лер-Сплавински и конечно уведомить того, что задуманное ими спасение Войцеха и Магдалены было провернуто блестяще. В 1944 году, когда положение уже внутри самой Германии начнет становиться отчаянным и той будет угрожать участь, прежде уготованная большей части европейских стран – руины и миллионные гражданские жертвы, самые разные слои и силы немецкого общества придут к пониманию, что дело не должно дойти до последней черты, начнут неожиданно объединяться и действовать. Конечно же – в первую очередь в подобное вольются те немногие представители «старой элиты», которые в течение самых страшных лет занимали последовательно антинацистскую позицию. Барон фон Гох окажется достаточно тесно связанным с группой июльских заговорщиков. В отличие от непосредственных участников и организаторов, он не будет казнен после неудачного покушения. Вина его не будет доказана полностью, а фамилия по прежнему будет значить много. Он будет заключен в концентрационный лагерь Маутхаузен, где уже воочию, а не из более-менее достоверных сведений узнает, что представляла собой практика режима, с которым он пытался бороться, и всякие сомнения относительно методов решения «еврейского вопроса», которые, подобно надежде, тлели в последней глубине его души, у него отпадут. В феврале 1945 года, пятидесяти восьмилетний человек, он заболеет воспалением легких. Прекрасно знающий о том, какой смертью кончают в лагере люди в его положении, он не станет дожидаться унизительного конца, улучит момент, бросится на одного из «эсэсовских» охранников и даже успеет тяжело ранить того ножом, прежде чем будет застрелен.
Войцеху и Магдалене не доведется увидеть снова и пана Юлиуша Мигульчека, еще одного из трех людей, сыгравших в их спасении главную роль. Пан Мигульчек благополучно переживет в селе Малая Циха два с половиной года войны. Встретит отряд советских партизан, который в середине января 1945 года сумеет захватить и освободить городок Закопане, превращенный в мощнейший укрепленный пункт немецкой обороны. Увидит освобождение родного Кракова и всей Польши, возрождение нормальной жизни. Будучи уже старым человеком, не вернется к работе в Ягеллонском Университете, но получит пенсию и будет внесен в список почетных сотрудников, участвовавших в Сопротивлении и организации подпольной работы Университета в годы оккупации. Увидит конечно и начинающиеся беды коммунистического тоталитаризма, но по счастью – не доживет до разгара репрессий и прочих, вновь отпущенных его стране испытаний, словно подтверждающих однажды сказанное ему профессором Житковски в разговоре. В 1948 году, в возрасте 69 лет, он умрет от сердечного приступа в своей краковской квартире, в которой, за исключением лет оккупации, прожил всю жизнь, оставленной по завещанию родственникам из сельца Малая Циха. Он оставит мир на девять лет раньше, чем супруги Житковски впервые вновь ступят на польскую землю. Однако – судьба спасенных им людей не будет для него загадкой. Уже осенью 1945 года, когда жизнь Европы вернется в более-менее нормальное русло, он начнет получать письма от четы Житковски, будет регулярно получать их до самых последних дней жизни. И из самих писем, и из приложенных к тем фотографий, будет в точности знать, как складывается судьба Войцеха и Магдалены, а так же их ребенка. За три года он получит не менее двадцати таких писем, больших и подробных, так что его связь с четой Житковски будет тесной, подобной связи с самыми родными, уехавшими жить в другую страну людьми. Из двадцати сохранившихся в архиве пане Мигульчека писем Войцеха и Магдалены, не будет ни одного, которое не заканчивалось бы словами – спасенные вами, вечно благодарные и молящие за вас судьбу.
Войцех и Магдалена останутся в лагере для беженцев возле Женевы до середины мая 1945 года. С самого начала их пребывания в лагере, они конечно же сразу займутся делом. Магдалена организует музыкальный кружок и хор, Войцех – курсы истории, философии и искусства. Руководство лагеря в течение всех лет будет исключительно ценить этих двух, так неожиданно оказавшихся полезными и ценными беженцев. Уже в октябре 42 беременность Магдалены не будет более вызывать сомнений и 16 мая 1943 года у нее и Войцеха родится сын, которого назовут в честь отца Магдалены – Юзефом. Через полгода после родов Магдалена вернется к полноценному занятию кружком и хором, а кроме того – к подготовке абитуриентов в женевскую консерваторию по теоретическим дисциплинам. Она будет давать уроки музыкальной теории бесплатно, и хоть их лагерь для интернированных находился на самой окраине огромного города, ей не раз случится заниматься с несколькими учениками одновременно, таким окажется спрос. Магдалене удастся подготовить к поступлению не менее десятка человек, этому не помешает даже изначально плохое знание французского, и очень скоро в музыкальной общественности Женевы о ней и ее трагической судьбе пойдет слух. Трагическая доля некогда исключительно одаренной, начинавшей блестящую карьеру польской пианистки, которая соединила сердце с евреем, была пытана и изувечена нацистами, вызовет небывалое сочувствие и участие, тем более, что чуть ли не символически олицетворит и воплотит в себе события и трагедию времени. Ее начнут воспринимать как коллегу, и когда в мае 1945 года им будет разрешено покинуть лагерь, легализация положения и место работы на кафедре музыкальной теории будет ей обеспечено. Войцех в течение двух с половиной лет так же будет заниматься бесплатным чтением курсов, и ощутив достаточное количество времени, устойчивость обстоятельств и безопасность, с головой окунется в работу, прежде всего помня о святой и главной цели – как можно более полноценно вернуть Магдалену к творческой жизни. Они напишут вдвоем еще летом 39-го года задуманное ими исследование в области философии музыки – об экзистенциальном символизме поздних симфоний русского композитора Чайковского. Благодаря этой работе, уже к концу 1945 года Магдалена будет не просто сотрудником и преподавателем женевской консерватории, а получит степень доктора, руководство заведения пойдет ей на встречу, и заочно признает и подтвердит ее диплом на основании свидетельств и официальных заявлений. Войцех с головой окунется в работу, в заботы о сыне, в бурлящую мысль, к задумкам своих книг по философии искусства и гносеологии. Выйдя вместе с Магдаленой из лагеря для беженцев, он начнет преподавать в одном из частных институтов, но быстро сумеет напомнить о своем довоенном имени и пробьется к должности в Университете Женевы. Этому поспособствует в частности и следующее событие. В 1947 году одно из издательств возрожденной после войны Германской республики, найдет преподавателя философии Войцеха Житковски и обговорит с ним условия перевода на немецкий и издания рукописи его книги. Ректор Тадеуш Лер-Сплавински, ощутив, куда и к чему ведут веяния в освобожденной, но кажется, заново оккупированной Польше, справедливо решит, что труд, переданный ему профессором Войцехом Житковски, обречен в наступающих обстоятельствах погибнуть. Для запечатленной в том глубины, правды и свободы философской мысли, попросту не оставалось места в стране, в которой ключевую роль обретали господство идеологии и ограниченного, тщательно выверенного ею мировоззрения. А потому – пользуясь старыми связями и еще не возведенной стеной, пока не случившимся откровенным обострением в отношениях между союзниками и победителями, сумеет передать рукопись книги в одно издательство во Франкфурте, сопроводив ее собственными подробными пояснениями, касающимися личности и судьбы автора, а так же обстоятельств ее создания. Книга будет издана и произведет колоссальное впечатление. В ней действительно окажутся затронутыми, во всей глубине осмысленными и прожитыми, самые животрепещущие для времени вопросы, в особенности остро вставшие именно в наступающем «отрезвлении на руинах». Войцех не даром произносил это в разговоре с паном Юлиушем Мигульчеком – «отрезвление и возрождение на руинах» было одной из ключевых идей и категорий созданной им, подвергавшей безжалостному осмыслению и обличению мир «цивилизации прогресса», исторфилософской концепции. Издание книги станет событием, сама работа будет оценена высоко, и в немалой степени этому поспособствуют и те обстоятельства, в которых она была написана автором, и тот факт, что ее создатель – один из немногих, переживших нацистские гонения, польских евреев и интеллектуалов. Отдельно так же привлечет к книге и та ее особенность, что автор, как напишут критики, «невзирая не страшные, трагические обстоятельства собственной судьбы и создания книги», в отличие от многих подобных случаев, «сохранил в ней предельную критичность в осмыслении, оценке и восприятии явлений», «удивительную свободу мышления от влияния устоявшихся, политически и идеологически заангажированных исторфилософских теорий и мировоззрений, способность возвыситься над мучительными контурами настоящего во имя ясного заглядывания в суть», а так же «ту волю к истине, нравственную и экзистенциальную чистоту рефлексии, глубину и напряженность вдохновленных опытом исканий, которые во все времена определяют философское мышление в его сути и тождественности себе». В качестве отдельного достоинства книги будут отмечены «одновременное сочетание ясности, убедительности и антиакадемической простоты языка», «позволяющее приобщить к важнейшим исканиям, вопросам и попыткам найти ответ самую широкую интеллектуальную аудиторию», «внятно указывающее на экзистенциальные истоки подлинного философского мышления, призванного не просто прояснять мир, а в этом – приобщать к нему, приводить к его нравственному и экзистенциальному переживанию человеком». Книга будет названа «дышащей опытом существования, судьбы и настоящего, глубоко и критически отрефлексированным в самом сущностном, и вместе с постановкой „последних“ вопросов положенным в основание одного из наиболее серьезных свершений современного философствования». «Глубокий, безжалостный к иллюзиям, оригинальный и философски целостный взгляд на суть трагических явлений настоящего и определившего его ужасы прошлого, вскрывающий совокупность приведших к катастрофе причин» – с такой короткой аннотацией самого издательства выйдет книга. Она изменит судьбу уже немолодого Войцеха и его жены чисто практически. Имя философа Войцеха Житковски вновь зазвучит, на его труды начнут ссылаться, с ним будут вступать в самые серьезные и актуальные по содержанию дискуссии. Вспомнят о его довоенном, запрещенном в 1936 году в Рейхе труде по философии музыки, и тот будет переиздан. Ближе к 1950 году, Войцех задумает целенаправленное исследование по проблеме тоталитаризма и вступит по этому поводу в глубокую, плодотворную полемику с Ханой Арендт, усматривая корни тоталитарности прежде всего не в трагической совокупности конкретно исторических причин и обстоятельств, а в природе и глубинных противоречиях социального бытия как такового. В конечном итоге – пойдут какие-то более менее значительные гонорары и молодая семья Житковски, в которой мужу и отцу ребенка перевалит за сорок пять, сможет ощутить прочность своего положения и даже купит апартаменты в одном из близких центру Женевы, респектабельных районов. Это случится в 1948 году, и в том же году он восстановит и подтвердит свое профессорское звание. Через девять лет после того, как в считанные минуты лишился квартиры на Вольной, дачи в предместье и всего имущества, Войцех наконец-то обретет дом, который ощутит и сумеет назвать своим, куда захочет с радостью и предвкушениями возвращаться каждый вечер. Вновь ощутит себя тем же, чем был до рокового для всего мира утра первого сентября 1939 года… К концу 40-х они с Магдаленой уже прилично будут знать французский, у них в основе наладится жизнь и они даже ощутят Швейцарию страной, в которой готовы и желают дожить то, что им еще осталось… У них будет расти необычайно симпатичный, крепкий и смышленый сын, который в его семь-восемь лет до смешного будет напоминать Войцеху себя самого, в особенности – привычкой молча всматриваться в окружающий мир умным, пытливым, полным грусти и завороженности взглядом… «Ребенок пойдет по моим стопам!» – любил с гордостью пыхтеть и громыхать глава семейства, и в самом деле, похоже на собственного отцу-раввину, видел в подрастающем, вступающем в трагическое и мучительное чудо жизни сыне, нечто подобное себе. Он ничего не будет знать о судьбе своей семьи, пока где-то году в 55, под самое Рождество, не получит письмо из созданного после войны еврейского государства. В этом письме, отправленном из Иерусалима, будет приглашение на съезд семьи Розенфельдов из Казимежа, родственников и потомков великого раввина и гаона поколения Мордехая Розенфельда. Письмо будет подписано именем Цадока и Йонатана Розенфельдов, а само событие будет приурочено к дню поминовения мученической смерти еврейского праведника, великого раввина Розенфельда, «зверски убитого нацистскими злодеями в краковском гетто в декабре 1942 года». Так он узнает о судьбе отца, а так же о том, что подобно ему самому, какая-то часть его семьи сумела спастись. Он запомнит указанный в письме день памяти и много лет будет зажигать в этот день свечу, но только по гражданскому, а не по еврейскому календарю. На собрание семьи он не поедет, как вообще ни разу не посетит созданного в Палестине еврейского государства. Это будет раздражать и вызывать вопросы, окажется тем более странным, что после страшных событий Холокоста, в особенности – для пережившего эти события, если не сам переезд в Израиль, то по крайней мере демонстрируемая внятными и разнообразными действиями солидарность с еврейским государством и его борьбой, станут просто правилом приличия. До конца дней профессор Житковски будет уходить от разговора на эту тему, сохранит нравственно и философски радикальную позицию в отношении к наследию еврейской традиции, а в его посвященных этическим дилеммам и вызовам времени трудах, с годами будет нарастать проповедь той общечеловеческой солидарности, которая основана на опыте совести и свободы, на персоналистическом сознании и самосознании. Одно из условий спасения от продолжающего дышать в загривок, угрожать новой пляской кровавого ада, профессор Житковски будет видеть в развитии общечеловеческого, экзистенциального сознания и самосознания людей, вместе со свободой человека, считая таковое основой нравственности, а кроме того – в возвращении к самому опыту «знания» и «памяти» о человеке как личности, о высшей и безусловной ценности единичного человека, утраченному в поле культуры за торжеством, как он будет любить повторять всю жизнь, «объективистских химер». Он до конца дней будет яростным сторонником и популяризатором идеи «политической нации», «национальный вопрос» будет для него в первую очередь вопросом о возможностях, судьбе, статусе и положении человека внутри определенной социально-политической среды, о человечности этой среды в отношении к личности человека. Говоря иначе – о человечности обществ, стран и «наций» в отношении к личности человека, ценности человека, достоинству и свободе человека, возможностям человека и высшей нравственной цели их осуществления. О человечности «нации», страны и общества как того мира, в котором неповторимо совершаются жизнь и судьба человека. Удивительное дело – для него, смелого критика польских реалий до войны, олицетворением пусть не даже неудачной, потерпевшей крах, но по сути глубоко подлинной попытки создания «политической нации», общества и государства, озабоченных утверждением ценности человека, свободы и личности, возможностей, неповторимой жизни и судьбы человека, станет именно Вторая Речь Посполита, та Польша, которая закончилась в дни «сентябрьского краха»… Он, яростный и дерзкий критик режима Пилсуцкого, вдруг словно забудет о том, что было в свое время причиной и предметом его острых, умных и конечно же справедливых нападок, и оставит в памяти самое лучшее и важное – факт, что на проклятый, трагический день 1 сентября 1939 года, его родная страна, Вторая Речь Посполита, оставалась единственным независимым государством Центральной и Восточной Европы, в котором сохранялась хоть какая-то приверженность принципам законности и демократии, правам и свободе личности, тем гуманистическим ценностям, которые были попраны и растоптаны на большей части обозримого пространства вокруг и оказались так страшно низложенными в последующие шесть лет войны… И когда профессор Житковски будет рассуждать о будущем Польши – отдаленном или нет, но в любом случае должном настать – то будет видеть свою страну возродившейся не в ее «имперских» и «националистических» притязаниях, а в воле к построению человечного общества, в котором человек, его жизнь и судьба, возможности и свобода выступят краеугольной, упорно и ревностно отстаиваемой ценностью… В своей же так сказать «прямой», «брутально-этнической» постановке, «национальный вопрос» будет для профессора Войцеха Житковски олицетворением средневекового варварства, рудиментом древних, антиэкзистенциальных форм сознания и опыта, которые, он верил, рано или поздно должны быть изжиты и обязательно будут изжиты, ибо таят в себе страшную, принципиальную угрозу. Ведь возрождение национальных и родовых инстинктов, апофеоз родового сознания в конечном и оказались той почвой, на которой состоялось историческое, вылившееся в ад кровавых событий, торжество нигилизма – Войцех многократно будет подчеркивать это в различных работах. И будет настаивать на том, что в самой своей сути «национальный вопрос», запечатленные в его постановке инстинкты и формы сознания, глубоко нигилистичны, ибо в основе отрицают, предают забвению личность в человеке, сознание личности человека и потому, конечно же – высшую и самодостаточную ценность единичного человека. Ибо там, где национально-родовая сопричастность человека является более высокой ценностью, чем он сам, неповторимость его существа, жизни и судьбы, заложенная в нем человеческая личность, он в конечном итоге обречен превратиться в «ничто» и «пережитое нами не так давно» – будет он обычно заканчивать – «не оставляет возможности сомневаться в этом». Ибо там, где «судьба нации и рода» поставлена во главу угла, волнует более и является более высокой ценностью, нежели судьба человека, человек обречен стать «ничем», утратить и самую последнюю ценность, и человеку, его жизни и судьбе, рано или поздно уготовано превратиться лишь в «бетон», «глину» для всеобщих и коллективных целей. И вплоть до самых последних работ, Войцех не устанет подчеркивать, что и в послевоенном мире «национальный вопрос» и тем или иным образом поднимающие его, зиждущиеся на нем идеологии, продолжают таить в себе эту принципиальную угрозу – и возрождения нигилизма в отношении к человеку, и превращения в «русло» для и без того бушующих и бурлящих нигилистических страстей… Общества, продолжающие болеть «национальным вопросом», ставить этот вопрос, дилемму «нации» и «судьбы нации» во главу угла, пренебрегая при этом главным вопросом о судьбе, ценности и возможностях человека, будут называться им в работах «нравственно инфантильными», так и не пришедшими к той зрелости сознания и морально-ценностных основ, которая делает любое общество человечным. Оттого-то, в конечном итоге, те исторические явления, которые состоятся на возрождении «национального вопроса» и попытке в очередной раз придать тому краеугольное и «вселенское», определяющее значение, вдохнуть жизнь в дилемму нации и судьбы нации, будут вызывать у Войцеха глубокий скепсис и неприятие. Он будет видеть в них историческое прошлое, судорожно цепляющееся за остатки иллюзий и химер, рудименты древних, обреченных стать изжитыми страстей и форм сознания, опасные эксперименты настоящего, пытающиеся отыскать основу в нравственно и исторически архаичном и потому – скорее всего обреченные на неудачу… В случае со странной для многих позицией профессора Житковски касательно визитов в еврейское государство, речь будет идти не только о глубокой драме его собственной судьбы, разверзшейся в юности, бесконечно критическом отношении к религиозной традиции еврейства и многом подобном. Войцех увидит в созданном и на глазах утвердившем себя еврейском государстве то, в котором «национальный вопрос» превращен в саму его фабулу и идею, в призванную определять его историческую судьбу дилемму и драму, где ценность нации и национального существования, дилемма судьбы нации, заложены в основах и изначально стоят «превыше всего»… Всё это до шока будет напоминать пережитые миром события и заблуждения, вновь отошлет к самым трагическим вопросам недавнего прошлого, покажется попыткой вдохнуть жизнь и значение в те дилеммы, которые, по глубокому убеждению профессора, должны и обречены стать реликтом. В конечном итоге – убедит Войцеха в том, что ни ждать от этого места чего-то хорошего и обнадеживающего, ни пытаться подобное там найти, нет никаких причин.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: