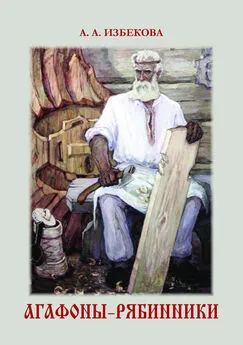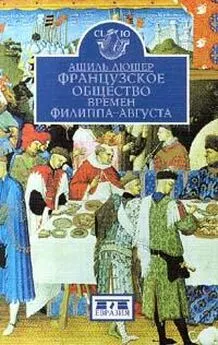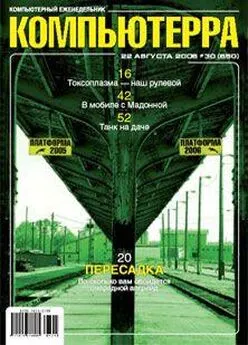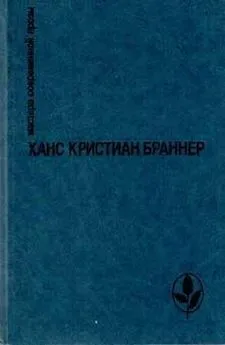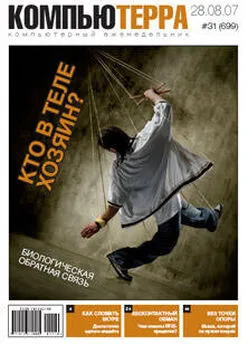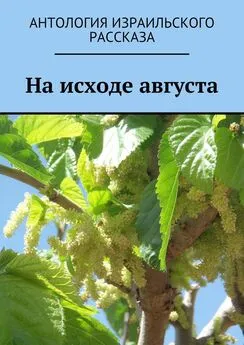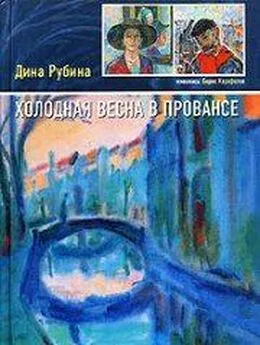Августа Избекова - Агафоны-рябинники
- Название:Агафоны-рябинники
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2020
- Город:Москва
- ISBN:978-5-00171-215-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Августа Избекова - Агафоны-рябинники краткое содержание
Агафоны-рябинники - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
В семье Сажиных царил матриархат. Если почти все деревенские мужики называли своих жен «баба», «матка», то Андрей Сажин величал свою жену Ариной Гавриловной и беспрекословно исполнял ее распоряжения.
Вдову Алену никто не знал по фамилии – Корамысловой. Эта фамилия значилась лишь в списках плательщиков податей. Алену прозвали Певуньей за ее бархатный голос. Запоет она бывало на масленице песню, мужики ахают: «Дал же Господь Бог такой голос бабе. Чисто дьякон в юбке!».
Оставшаяся после смерти мужа в тридцать лет с двумя детьми, видная собой, синеглазая и русоволосая молодка не захотела вторичного замужества, несмотря на завидных мужиков.
«Думайте обо мне что хотите, а я своему Антипушке и мертвому верна буду», – говорила она сватам.
На посиделки к матери приходила и хромая Клисфена Ковшова, проводив своего буйного мужа на мельницу. Грубый и дюжий детина – Андрей Ковшов следовал дикой поговорке: «Люби жену, как душу, тряси ее как грушу». Напившись пьяным, он вымещал на жене все домашние и мирские невзгоды. На второй год женитьбы, возвращаясь на масленицу из гостей, Ковшов привязал свою молодую жену к саням, как скотину, и погнал лошадь вскачь.
Находясь на последнем месяце беременности, Клисфена пробежала немного, упала, сломала ногу и долго волочилась за санями. По прибытии домой, она родила мертвого ребенка, оставшись хромой на всю жизнь. От частых побоев мужа Клисфена преждевременно состарилась. На ее желтом, морщинистом лице, застыл вечный испуг. Густые прежде волосы, за которые муж ее привязывал к кровати и избивал, поредели и поседели.
Запуганная, забитая, она все-таки не переставала тянуться к своим подругам, питая робкую надежду избавиться от своего «мучителя».
Страстью Клисфены, в которую она выплескивала свою неуспокоенную душу, было изготовление удивительного узорчатого полотна. Ее полотно на ярмарке разбирали нарасхват. «Секреты» мастерства она вроде бы и не хранила, а вот поди ты, попытка выткать такое же полотно даже у такой признанной мастерицы, какой была моя мать, кончались неудачей. Полотно выходило совсем не таким, как у Клисфены. У той узоры «разговаривали», а не были «сонными».
Любил я эти зимние посиделки женщин в нашей избе. Домна ставила светац на середину избы и все усаживались вокруг. Дед Панкрат, обожавший русскую песню, слезал с полатей. Примостившись возле светца с неизменным лаптем, он басом подпевал женщинам.
И вот уже поплыл по нашей избе Аленин запев: «Снежки белые, пушистые…» Сладостно-жалостливый голос ее щемил сердце, хотелось плакать о том, что снежки белые не закрыли горя лютого одинокой женщины, бредущей по жизни без поддержки и радости. Алена вконец преображалась, когда пели про «тройку почтовую», про бедного ямщика, у которого богатый, да постылый жених отнял любимую невесту.
Раскрасневшись Алена выводила:
«…Как только лютою зимою замерзнет матушка – река,
Доской тесовой, гробовою, закроют тело ямщика.
По мне лошадушки взгрустятся холодной матушкой – зимой.
А мне уж больше не промчаться вдоль по дорожке столбовой!».
Мягкий и сильный голос Алены вел за собой весь «хор», выливая не выплаканную грусть и совершая чудо. Изба наша – уже казалась мне не избой, а лесной поляной, с зажжёнными по средине костром. А вокруг добрые феи и волшебник – Дед. Где-то рядом несется тройка с обездоленным ямщиком. Мне даже чудится звон колокольчика и цокот конских копыт. За стеной избы бушевала метель, а мы сидевшие у костра, как на ковре-самолете и несемся к звездам.
Натешившись песнями, женщины начинали разговоры. Арина рассказывала, как Роман Плахин – пьяный на днях избивал свою жену, и та, взывала о помощи. Но никто из соседей не хотел вмешаться, считая «зазорным» встревать в семейные дела. Только она – Арина не утерпела. Вбежала к Плахиным, связала Романа, надавав ему тумаков и пообещала: «Я тебя, ирод, ещё не так ухрястую, если ещё раз посмеешь поднять руку на жену!».
Роман ругал «гренадершу» (так звали на деревне Арину), но не мог вырваться из ее сильных рук. Молчаливая Клисфена проговорила: «Доколе же нас, бабоньки, будут увечить мужиков?! Работаем по-лошадиному, а «наградой» – побои.
– Я так разумею, – ответила Арина на вопрос подруги, – Наши дети не будут такими извергами. При этом она выразительно посмотрела на меня и я подумал, что никогда не буду таким извергом, как Андрей Ковшов и Роман Плахин, когда стану взрослым.
Вот я и поведал вам, дорогие читатели, из каких родников начиналась моя речка. А как она текла в детстве и юности – про это вы узнаете в следующей главе.
Глава 2. Детство и юность Анфима Житова
« Добрый совет может окрылить или дать понять человеку, что ему ещё надо найти самого себя»
Русская пословицаНа свет я появился в 1876 году – через год после выхода из больницы моей матери – Аграфены Житовой. Отец мой опасался, что мать, перенесшая длительную болезнь, может родить урода.
Сомнения отца рассеялись, когда он увидел крепкого, нормального ребенка.
«Хы, из камня вода потекла», – обрадовался отец и расщедрился полтинником матери на «зубок» новорожденному.
Дед Панкрат называл меня «мужичок-боровичок» за то, что я быстро рос. Черные мои волосы стали кудрявиться. Взгляд карих глаз подмечал каждый день что-нибудь новое. Слух воспринимал неведомые звуки и слова окружающего мира.
Я радовался щебету скворцов весенним утром на скворечнике березы у нашего дома, летнему, ласковому солнышку на голубом одеяле неба, шелесту желтых кленовых листьев в осеннем саду, художествам мороза зимой на оконных стеклах.
Все предметы вокруг меня я старался потрогать. Однажды, трехлетнего мать взяла меня с собой в огород рассаду. Увидев у бани крапиву, я хотел ее сорвать и от боли закричал. «Мамка, мамка! Меня травка укусила!» – Мать отвела меня от крапивы, пояснив: «Не тронь крапиву, она жжется!».
Подмечая, как в нашей семье все трудились, «зарабатывая себе на хлеб», как говаривал дед, я старался во всем подражать взрослым. Помню, как-то летом, мы с дедом пошли ломать старую баню. Сгнила, скособочилась она. Дед взял топор и лом, а я палку. Желая заслужить похвалу от деда своим усердием в работе, я забежал вперед деда и с западной стороны ударил по оконному стеклу.
Обежав баню и увидев подходившего к ней деда, я радостно сообщил, что уже сломал у бани стекло. Дед не рассердился на меня, а только заметил: «Чудак ты, Фимка! Зачем разбил стекло? Оно бы нам ещё пригодилось». – Я рассеянно хлопал глазами.
– Запомни, милок: из старого не все плохое. Есть и хорошее и его надо оставлять людям. Ломать надо только сгнившее, негодное.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: