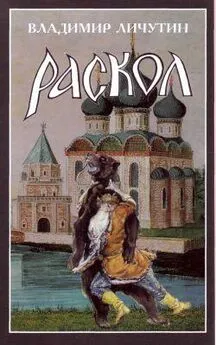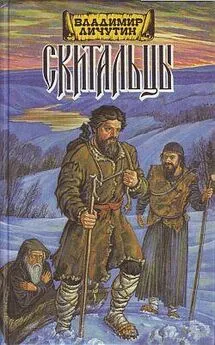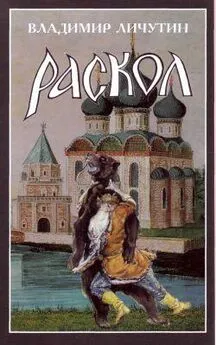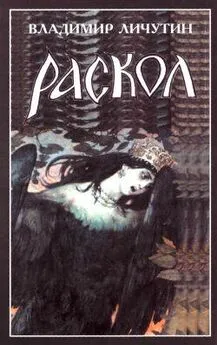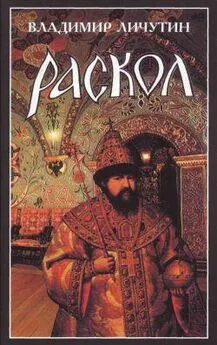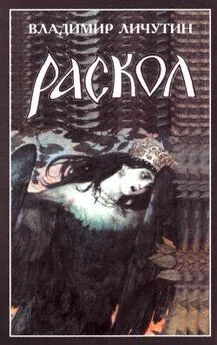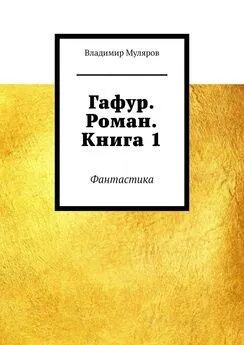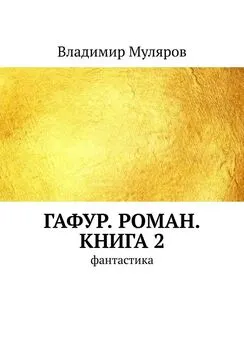Владимир Личутин - Раскол. Роман в 3-х книгах: Книга II. Крестный путь
- Название:Раскол. Роман в 3-х книгах: Книга II. Крестный путь
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Личутин - Раскол. Роман в 3-х книгах: Книга II. Крестный путь краткое содержание
Владимир Личутин впервые в современной прозе обращается к теме русского религиозного раскола - этой национальной драме, что постигла Русь в XVII веке и сопровождает русский народ и поныне.
Роман этот необычайно актуален: из далекого прошлого наши предки предупреждают нас, взывая к добру, ограждают от возможных бедствий, напоминают о славных страницах истории российской, когда «... в какой-нибудь десяток лет Русь неслыханно обросла землями и вновь стала великою».
Роман «Раскол», издаваемый в 3-х книгах: «Венчание на царство», «Крестный путь» и «Вознесение», отличается остросюжетным, напряженным действием, точно передающим дух времени, колорит истории, характеры реальных исторических лиц - протопопа Аввакума, патриарха Никона.
Читателя ожидает погружение в живописный мир русского быта и образов XVII века.
Раскол. Роман в 3-х книгах: Книга II. Крестный путь - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Но, слава Богу, перемогли, сломали дорогу; скоро в тепло. Вон на высоком угоре с редкими проплешинами ивняка и рудо-желтых каменистых осыпей поманила взор Окладникова слободка с насупленным детинцем и церковкою возле острога, с грудастыми избами в два жила по-над угорьем. Морозное седатое солнце прощально ударило из-за спины в родимые окна, окрасило редкие стеклины студеным огнем, будто заторопило затапливать печи. И, как по зову, там-сям встали в небо кудреватые дымы. Эк, повеселели-то как обозники; даже заиндевелые лошади, почуяв отдых, зашагали машистее, и Аввакум, выпроставшись из оленной полсти, встал на колени и, обдирая с усов и бороды ледышки, пристально вгляделся в близкий ночлег. «И тут люди живут?!» – в который раз с восторгом и ужасом удивился он. Аввакум мало жил, но много перевидал; дорога старит тело, но умудряет разум. Забрались же, Христа ради, в лешову сторону, на чертов кукан. Поди, все там эки?
Протопоп невольно перевел взгляд на вожата?я. Любим ходко торил путь в голове обоза, примечая замытую снежными струями обманчивую дорогу через целик с едва заметным тускло-серым прочерком полозьев. Аввакум не сдержался, соскочил с розвальней, охнул от боли в замлелых коленках, попытался догнать передового, но после трех шагов споткнулся, ухватился за наклестку саней и, покорно сгорбившись, потянулся в шаг лошадям, не снимая, однако, сторожкого взгляда с надвигающейся слободки, в тихих сумерках, незаметно сгустившихся, похожей на огромный камень-одинец, – так плотно и сердечно сгрудились поморские избы. Заливистый скрип полозьев на раскатах, глухо доносящийся с горы собачий брех, мерное тетеньканье соборных колоколов, сзывающих на вечерницу, горьковатый печной дым, опадающий на снежную поскотину, – все это предвещало скорую ночевую, тепло, горячее ушное, надежный угол. Пусть завтра вновь в дорогу, пусть завтра и в смерть, но как желанно именно сейчас растянуть измаянные костомахи на полатях, на жарко натопленной лежанке, сунув под голову старый растоптанный каташок. Есть ли что слаще этой минуты? И медленно надвигающаяся Окладникова слободка чудилась сейчас куда милее и слаже боярских перепечей.
Лошади тяжело втащились на носик, остановились подле караульной рогатки, стрелец-вахтер, светя слюдяным фонарем, придирчиво осмотрел подорожную грамотку, пересчитал по головам путевой народец, но в дорожной клади рыться не стал.
...Вот он, край Руси. Восемь лет назад об эту же пору съехал из слободки Любимко Ванюков с обозом омытчиков, и вот возвращается в осиротелые запустелые домы с одной надеждою: хоть бы найти мать вживе. Возле кружечного двора пылал костер, горела растопка и у въезда в детинец. Любим чуть приостановил передовую лошадь, зажав в кулаке узду, замедлился в раздумье. Государев невольник в санях, ему попадать далее в полуночную страну, и самое бы время сдать его воеводе Цехановецкому под досмотр губного целовальника; в крепостной застенке, поди, сыщется и прокорм, и ночлег. Но, презрев строгое государево уведомленье, Любим круто повернул возы наперерез съезжей площади, мимо Богоявленского собора и таможенных прилавков, обратно на угор, в свой двор. Нетревоженая целина лежала на репищах, на заулке, возле избы на передызье, где прежде всегда было людно и стадно, всегда затворы раздернуты нараспах, а у коновязи, у сенной охапки, толклась не одна пара лошадей, а за изгородью часто разбивала постой самоядь, наскоро свернув оленный аргиш. Изба помытчьего старосты Созонта Ванюкова была после воеводской избы, пожалуй, тем вторым привальным станом, куда сбивался работный люд со всего Помезенья и Поморья; зверовщики ли, артельные ли с тюленьего промыслу, работные ли с Пезы, нанявшиеся в котляну, иль наважники с Канина, охотники ли с тайболы, пришедшие в слободку за харчем, – при живом-то хозяине всегда находили здесь сугрев и ушное; иной раз улягутся на пол вповалку, подымая потолок храпом, ноге ступить некуда, в воздухе хоть топор вешай от застойного терпкого духа сохнущей одежды, дегтя, смазных ворванью бахил, ночных шептунов; и Любимке, свесившему голову с полатей, страсть как любопытно и завидно при виде замаянного, сваленного, распластанного дорожного люду, коий сам себе голова и воле своей хозяин. Свет от трех лампадок выхватывал то чей-то распахнутый рот, то охваченные потом, свалявшиеся в колтун волосы, то беспамятные глаза, внезапно вдруг распахнувшиеся от жуткого видения. За жбаном-то браги захмелев, много чуда наколоколят мужики, и всякое красное слово уживается в мальчишечьем сердечке, как живой немеркнущий уголек...
И вот все куда-то делося, как сон. Двужирная изба с широкими поветными воротами, похожая на крепость, в глухой зимней темени – словно огромный кладбищенский голбец, куда поместился на упокой весь долгий род Ванюковых. Взвоз был закидан снегом, поветные ворота закуржавлены – и ни следочка; Любим – к переднему крыльцу, но и там ни сажной тропки, ни иной человечьей отметины; слюдяные окошки в нижнем жиле черны, как речные прорубки; в верхних стеклинках морозная броня. Действительно, вымерли, что ли, все? Мати-то где? Любим метнул взгляд в соседнюю избу; у Ивана Семеновича Личютина шаял в окне огонечек, теплилась березовая лучина, роняя огневые искры в корытце с водою; показалось даже, что мелькнула чья-то тень с откинутой назад головою и копною волос, уложенных короной. И сердце-то у стремянного, и без того беспокойное во всю дорогу, тут всполошилось, и мати родимая отступила в сутемки... Господи-и! к тем же окнам и спешил из чужедальней стороны, чтобы однажды подкрасться к ним ввечеру, продышать глазок в стеклинке, а после, унимая смятение, колотнуться в мерзлый наличник, дожидаясь шороха, мельтешения и скорых шагов к двери; ради этой-то минуты и попадал из стольного града, этой минутой, оказывается, и жил. Любим оглянулся и с тоскою оглядел чужой ему обоз: сейчас надо колготиться, чтобы устроить всех на ночевую...
Любим подошел к хлевным воротами – о радость! – нашел след опорков. Он дернул за сыромятный ремешок щеколды, толкнулся: дверка не поддалась. Заложена изнутри брусом. Эх, как мать-то остарела, вот и воров стала бояться, просвирница, от лихих людей таится в дому, как за монастырской стеною. Иль нажиток стережет, богатую гобину, чтобы передать в сохранности сыновьям, невесть где скитающимся. У Любима завлажнели глаза, он стянул меховую рукавку, сгреб с заметенной стены горбушку снега, по-мальчишечьи сунул в рот: так вдруг захотелось пить, спеклось внутри. Обоз дожидался команды, лошади встряхивали мордами, скрипели обвязки саней, стрельцы сымали дорожные тулупы, складывали в возы походную справу и оружие. Луна-молодик вытаялась в небесной проталинке, снег, до того черный, засеребрился, вспух, протянулись тени, углы избы крякнули от мороза, осели венцы, словно крепостная пищалица лайконула, предупреждая непрошеных гостей... А мы-то званые, мы-то здешние!..
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: