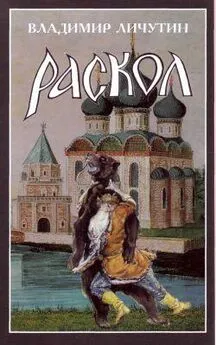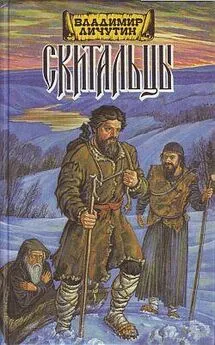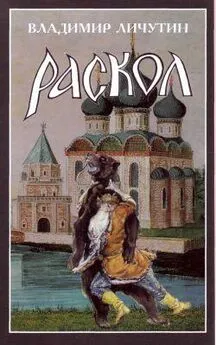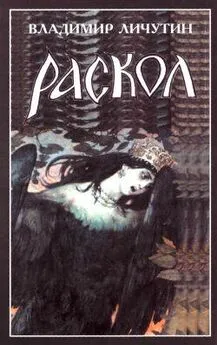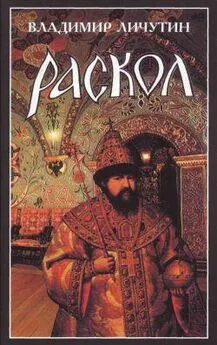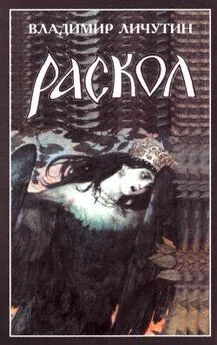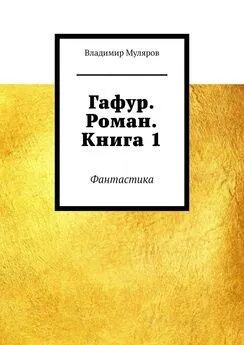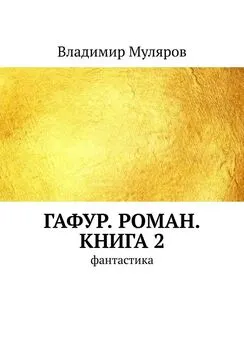Владимир Личутин - Раскол. Роман в 3-х книгах: Книга II. Крестный путь
- Название:Раскол. Роман в 3-х книгах: Книга II. Крестный путь
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Личутин - Раскол. Роман в 3-х книгах: Книга II. Крестный путь краткое содержание
Владимир Личутин впервые в современной прозе обращается к теме русского религиозного раскола - этой национальной драме, что постигла Русь в XVII веке и сопровождает русский народ и поныне.
Роман этот необычайно актуален: из далекого прошлого наши предки предупреждают нас, взывая к добру, ограждают от возможных бедствий, напоминают о славных страницах истории российской, когда «... в какой-нибудь десяток лет Русь неслыханно обросла землями и вновь стала великою».
Роман «Раскол», издаваемый в 3-х книгах: «Венчание на царство», «Крестный путь» и «Вознесение», отличается остросюжетным, напряженным действием, точно передающим дух времени, колорит истории, характеры реальных исторических лиц - протопопа Аввакума, патриарха Никона.
Читателя ожидает погружение в живописный мир русского быта и образов XVII века.
Раскол. Роман в 3-х книгах: Книга II. Крестный путь - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
– А где большенькие-то? – спросил Аввакум сквозь легкую дрему, едва размыкая слипающиеся вежды. А все одно крепил себя, перемогал вялость, словно бы на вахте стоял. Сквозь туман в голове подумалось: надо бы Тимофея с возов снять. Заколеет парень. А лихо было шевелиться; ноги в валяных опорках растеклись дижинью, источились, и тело, истомев в домашнем тепле, разжижло на костях – и не обрать его в грудку. Колокол в слободке отбил боевой час, скоро первые петухи заорут; истовые молитвенники на ночной поклон встают под тяблом на колени, чтобы стойно встретить бесов, слетающихся на улов. ...Ох-ох... Аввакум взглянул на Улиту Егоровну; просвирница не сводила любовных глаз с меньшенького. Переспросил хозяйку: – Прочие-то где? В людях иль в промыслу?
– А Богови, – просто ответила старушка.
– Померли, что ль?..
– Тьфу-тьфу... Ты что, батько? Иноческого звания ребятки. Старший Феоктист на Соловках будет в будильщиках. Середняй обет дал, в юроды подался. Быват, слыхал? Феодором кличут. Наши мужики ходили на Москву, сказывали, воротясь: де, твой парень, Улита Егоровна, тамотки за святого...
– Хозяюшка-а, – протянул Аввакум, разом проснувшись от известия. – Ты меня ровно дубьем по голове. Да он ведь мне будет за сына духовного, а я, выходит, ему за отца. Знаю-нет вещуна? Слышь, Настасья Марковна? – вскричал протопоп. – Знало сердце, куда вести меня. В святой дом угодили... Ну надо же, какой скрытный. И словом не обмолвился. Нету, говорит, ни семьи, ни родни. Христос, говорит, за отца и братца родимого. Прискакивал, за наклестко саней хватался, просил взять... Ты, Любим, пошто брата не залучил, оттолкнул? Матери бы в радость.
– Не твое дело, протопоп, – грубо оборвал Любим. – Не ширься на чужой лавке, знай приветы.
– И верно, батько, помолчал бы, – донеслось из кута.
– Не могу молчать! – Аввакум и вспылил бы, но тут сдержался, прихлопнул кулаком по колену. – Не дай радости току, сердце лопнет... Святой дом твой, Улита Егоровна, просвирками пахнет. Верно жена-то расчуяла.
– Ой, отче, и до святого дому еретик приступал. Было вовсе за грудки взял. С сыном-то разбежались, ушел из дому втай. Ты, говорит, мать, Бога предала, от тебя козлищем блудным пахнет. Дышать, де, нечем. Ушел втай и оставил нас с таткой в пустом дому. Шатнулась я было в вере, да Господь надоумил, поддержал за локоток. Шепнул: де, баба-дурка, не лезь в чужую хлевину, забывши родные белые горницы. И отца Мисаила навел в прежней вере держатися. А тут и причт весь очнулся, ведь чуть по-скотиньему не замычал, так крепко бесы насели. Видит Бог, не по ветру надо жить, а по солнцу. По ветру-то всякой воней натянет. Душу-то испроказишь, гноищем истечет. Так-нет, батько?
– Толкуешь, как по писаному. За эти-то слова, хозяюшка, и поперли меня с Москвы. Да не раз в застенки таскали, растянувши на цепи...
– Вот и я... Солнце-то, как прежде, с востока катится колобочком, а западает в гнилой угол. А нам на што пятиться в болото? Некоторые расхвостались с отцовой верою и предков своих в могилках предали.
...Сын-то меня как корил: де, мама, опомнись, шишу поганому чару подаешь. А я с тех слов в крик, на рожон, глупая, перла. На што рожала, де, вас. Де, пустого замеса вы люди. Сами уродить не можете, дак от вас лишь черви и заведутся. Наговорю пустого, а после-то и реву, как корова... Ушел Минеюшко, стоптал мамку под ноги. И этот-то баклан, у-у-у, отелепыш. Чем память-то по себе оставить, пересека? Баба-то на шее повиснет, будто золотое огорлие: и туго, да баско. Иди к мамке, Любимушко. Я и запах твой позабыла. Бывало, зипунишко-то старый понюхаю, прислонюсь лицом, будто тебя малого в зыбке учую, – мать частила, перебивала речи скорой слезою, всхлипывала, душу свою выворачивала перед гостем наизнанку, как на исповеди, будто к отеченьке духовному прислонилась с сокровенным жгучим признанием. Но забывалась вдруг, – и сразу руки в боки, а грудь скамейкой, а сама присадистым телом, как баклажка... Экая балаболка стала, голова изредилась от старости, и словесный мох сам наружу сыплется.
Особо и не вникал Любим в материны речи, но отчего-то и стыдился их, бестолковых, грубых, назойливых, перед гостем, что с самим государем, бывало, братчину пил из одной посуды, да вот перетыкнулся охальным попреком.
– А ты, служивый, чего молчишь? Сядь к матери рядком, да поговорим ладком. А то сидишь, как торчок на зимней дороге, – не удержался, съязвил протопоп.
– Негоже мне с вами вести речей. – Любим снял со спички старый пониток еще отцовых времен, накинул на плечи. – Ты бы, протопоп, не клусничал, не точил балясы понапрасну, а приглядел бы за своими. Как бы худа не вышло, – буркнул Любим и подался из избы.
Окладникова слободка распечатала первые сны. Мела поземка, как предвестник метели. Еще светили на небе звезды, но их уже обволакивали низкие дымные хвосты. У детинца на вахте стрельцы жгли костер. Ветер нажигал щеки. Набросив на голову суконный башлык, Любим прижался к простенку, словно бы скрылся от случайного пригляда. Сбоку за чужим заулком, опоясанная суметами снега, темнела длинная присадистая изба Ивана Семеновича Личютина; едва прояснивали крыша, снежная бахрома в пазьях стены да кухта на карнизах верхних оконниц. Со скатов избы завивало снежные змеи и ветер, отрясая с их длинных гнучих хвостов студеный прах, кидал пригоршнями в лицо Любиму. Господи, ведь на всю Окладникову слободу, почитай, большая весть: с самой престольной накатил обоз со сторожею и стал на постой во вдовьей избе, минуя воеводу; столько огней разом заполнили двор, сполохов, коньего ржания, криков и руганья, когда сымали с возов клади, и детского плача, и ребячьей возни. И неуж до соседнего житья не достал шум пришлецов? ведь никто не явился дознаться из любопытства, каких таких гостей привел Господь к Улите Егоровне, с каких краев будут подорожники в ночь – за полночь и нет ли кого из своих? Иль повымерли все и утекли в небесные райские селитбы на вечное счастие?
Почудилось Любиму, что за боковой слюдяной шибкою, припорошенной снегом и окованной ледяной бронею, мазнуло желтым сполохом, вроде бы там кто-то крадучись приблизился к окну со свечным огарышем и прислонил лицо. Любим напряг взор; да нет, примстилось. Соскочить бы со взвоза, метнуться через репища в соседский заулок, колотнуться бы скрадчиво в ворота. Да нет; хоть и сердце сполошливо мечется, но ноги – как ватные. Разве станет девка на выданье ждать изменщика неверного восемь долгих лет, чтобы свою молодость добровольно поместить в скудельницу, отрезать от короткой бабьей жизни добрую краюху заповеданных сладких женитвенных лет? Потому и крепился Любим перед матерью, не заводил разговора, ни словом, ни полсловом не выдал горючей сердечной тоски по Олисаве, что вот здесь, в конце пути, неожиданно потерял под окнами нареченной всякие надежды на счастие.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: