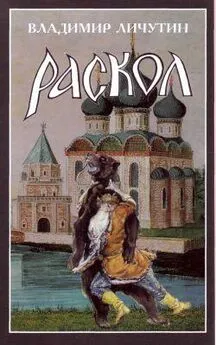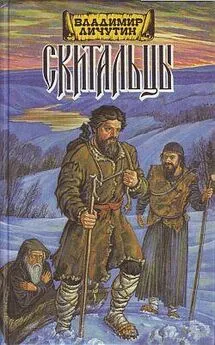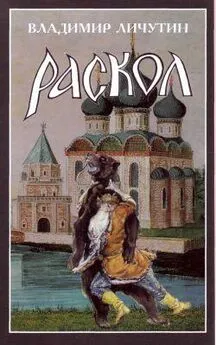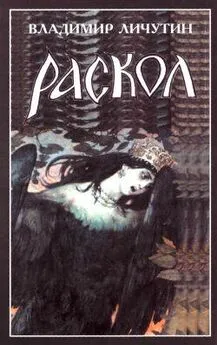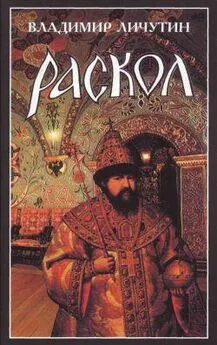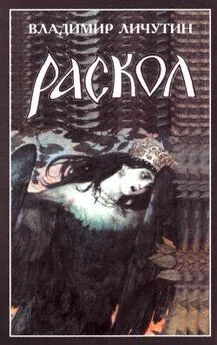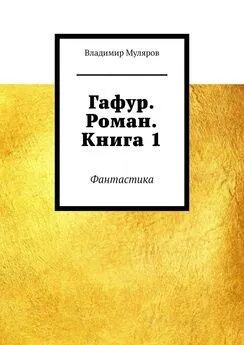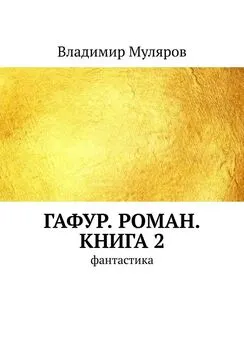Владимир Личутин - Раскол. Роман в 3-х книгах: Книга II. Крестный путь
- Название:Раскол. Роман в 3-х книгах: Книга II. Крестный путь
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Личутин - Раскол. Роман в 3-х книгах: Книга II. Крестный путь краткое содержание
Владимир Личутин впервые в современной прозе обращается к теме русского религиозного раскола - этой национальной драме, что постигла Русь в XVII веке и сопровождает русский народ и поныне.
Роман этот необычайно актуален: из далекого прошлого наши предки предупреждают нас, взывая к добру, ограждают от возможных бедствий, напоминают о славных страницах истории российской, когда «... в какой-нибудь десяток лет Русь неслыханно обросла землями и вновь стала великою».
Роман «Раскол», издаваемый в 3-х книгах: «Венчание на царство», «Крестный путь» и «Вознесение», отличается остросюжетным, напряженным действием, точно передающим дух времени, колорит истории, характеры реальных исторических лиц - протопопа Аввакума, патриарха Никона.
Читателя ожидает погружение в живописный мир русского быта и образов XVII века.
Раскол. Роман в 3-х книгах: Книга II. Крестный путь - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
– Никто не знает своего места, и всяк спешит на перетык, – нарушил молчание юрод. – Олисава, посестрия моя. Соскучился по тебе. Благослови грешника, притуши язвы! – Феодор придвинулся на лавке, пристукнул кулаком подле себя. – Пришла ты и солнце с собою принесла. Дозволь мне откушать печива? – Юрод откинул ширинку с блюда, отломил пирога с груздями. Но не столько съел, сколько просыпал на седую бороду. – Иди, иди, молитвенница! Иль позабыла побратима?..
Олисава оглянулась потерянно, не зная, что сказать, потуже притянула дверь, чтоб не поддувало в избу. Из-под ладони оглядела застолье, примечая куда сесть, скинула верхнее платье на коник, прошла к столу и робко опустилась на край лавки. От юрода пахло ветхим, запаршивленным, измаянным телом. Олисава, едва сдерживая слезы, поцеловала измозглую, как кость, черную руку в проточинах и омертвелых язвах, облобызала верижный крест и случайно коснулась лбом голой груди блаженного в распахнутом вороте страннической котыги; кожа была неживая и окоченелая, как у покойника.
– Отеченька, ты ушел и сердце мое унес, – прошептала Олисава с протяжным грудным всхлипом, от которого вздрогнуло все застолье и смутилось, будто подглядело чужую недозволенную тайну.
– Доченька... андел... крин лазоревый... дудочка Христовая! Я по тебе молился ежедень, спасая. Я к тебе бежал, запыхался. Дух мой витал неотступно над твоею избою... А все он, непуть, все он, загородил тебя несчастием! – погрозил Феодор пальцем неведомо кому, обратившись взглядом в потолок, словно там витал его враг; но близким-то ясно, кого суровит юрод. Олисава спрятала лицо в подстолье, укрепилась, чтобы не зарыдать, желвак в груди скоро иссохнул и иссяк, легкой слезой очистило глаза. И такое вдруг случилось переменье с нею, и душа вот обрадела, наполнилась кротостью, а лицо омыло молодильной водою, будто ангел спустился с небес, коснулся ее темечка всесильным перстом и вдунул покой. И все застолье, любуясь, невольно засмотрелось на гостью и, расчуяв тайну, с укором подглядело за Любимом.
Чужой востроглазый батюшко с волчьим поставом головы степенно процеживал косую длинную бороду, с непонятной ухмылкою переводя взгляд по сотрапезникам, а напоследок узко посаженные, с прозеленью глаза, как острогу, с непонятной придиркою уставил на Олисаву. Олисава смутилась, вскинула голову... Вроде бы случайный, не близких кровей человек, но как хозяин в избе; и Любим ему не перечит, не указывает на место. Хоть бы взгляд кинул, бажоный. Чего там сыскал в окне? Милый-суженый, река слез по тебе проливана, в девках-перестарках осклизла, как дождевое яйцо, сама себе противна... А заматерел сколь! Матерущий медведко, двери надо разноставлять; не одну блудницу на ручищах, поди, байкал...
Чего засумерничал-то, родимый? Не бери в ум. Противна, да? Не пугайся, не оприкошу, запук не выставлю, обид не выскажу и на колени не паду умолять; отрезанный ломоть к караваю не приставишь... Было миловано да сладких речей молвлено. Присушил к себе, как лист баенный, да отряхнул после и пропал, будто ветер. Бывало, как на приступ шел, уламывал да улещал, да сронить хотел крепость, то я не давалась, боронилась, как могла; страшно с девичьей честью распрощаться. Столько у девицы и богатства, его-то и доспевает она в сохранности для будущего мужа. Говорят, де, где конь ни валяется, там шерсть оставается. Но промеж нас ничего худого не было, пускай понапрасну не клеплют; да только все одно – приплетут с короб вранья.
...Эй, не страдай занапрасно, девка! человек предполагает, а Бог располагает; что ни делается, то все к лучшему; сошлась бы с ветреным да ломоватым, после бы наплакалась; лучше в старых девах век коротать, чем спесивому постелю стелить.
Так утешно нашептал неведомый голос со стороны, и Олисава приободрилась, уже весело, с вызовом оглядела застолье. Чужой протопоп все так же целил в нее взглядом, в зеленых озеночках горели желтые искры. От него-то Олисава и почуяла вдруг подмогу, с той стороны донеслась благая весть. Стараясь не смотреть на Любима, Олисава робко подошла к протопопу, опустилась на колени.
– Благослови, батюшко, грешницу, – с тоскою прошептала Олисава и торопливо приникла губами к его ладоням, сложенным горсткой; от рук Аввакума истекал сухой жар, кожа, как у воеводиной девки Марьи, пахла розовым маслом. Аввакум выпростал ладонь и положил на темечко горюшице, проникаясь ее глубоким безутешным страданием; в темных, как вороново крыло, блескучих волосах уже пробилась ранняя седина.
– Подымись, голубушка, встань, бояроня! – весело воскликнул протопоп и помог девице подняться. – Вот тебе и невеста, стремянный. За государевым конем и счастье свое проворонишь.
Протопоп приобнял Олисаву, как малое дитя, и, озорно подмигивая застолью, притиснул к колену, отчего девица закаменела сердцем.
– Будет тебе, батюшко, на пустое-то молоть. Напрасно языком-то чешешь, – вспыхнула Олисава и сразу засердилась, зафушкала, готовая надерзить, и лицо пошло крапивными пятнами; прилюдно у нее волю отнимали, принуждали к притворным байкам, что для девушки хуже погибели. – Никого мне не нать, окромя таты с матушкой, и Любиму от меня – здравствуй да прощай.
– Вот и не говори. Бог-от что постановил? плодись и размножайся. Слышь? Ты от Божьих заповедей не бегай... Любим, что молчишь, иль язык проглотил? Нынче же свадебку и сыграем. Венцом-то покрою вас, пока не съехал к самояди на погибель.
– Так его, батюшка, страмоти изгильника! Девке наобещал, шатун, да и кинул на пустых киселях, – поддержала Улита Егоровна. – Он, наверное, сгадал век холостяжить да по чужим оголовьицам волосье оставлять. Так и скажи, сними с нее обещаньице.
Любим, обычно такой говоркой, вдруг вскочил резко из-за стола, на рысях вымахнул из избы, дверью стеганул наотмашь: эк, сердешный, как проняло. Там, в сумерках настуженной повети, очнулся, скоро остывая. Чего заерестился? – корил себя, опустившись на сенную копешку возле хлевного проруба. Слышно было, как внизу, в подклети, шумно, влажно дышала стельная корова, готовилась к родинам; из стайки наносило душным навозным теплом. – Чужой язык не пришьешь, рот в узелок не затянешь. Пусть несут околесицу... А ты что ждал? Восемь-то лет вихорём крутился, а девку впусте кинул на жданки. Пустые жданки и железо съедят. Такую, прежнюю, как в памяти, хотел встретить? Эх, коней-то торопил, ровно на крыльях летел. Той минутою и жил, как обнимет голубеюшку, а она обовьется, словно бы хмель дикий, и уж тогда веком не разлучаться... Любим с тоскою и горечью, как малое неразумное дитя, наказанное за шалости родимым тятькою, прислушался к шумам из избы; там судачили, наверное, о нем, перемывали кости, оттуда булькала ровная мирная говоря, словно бы того лишь и ждал народ, когда уйдет стремянный и можно будет всласть покуражиться.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: