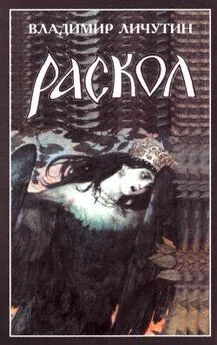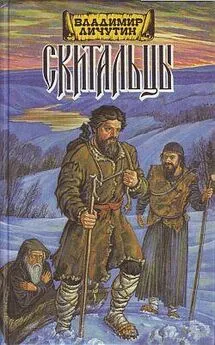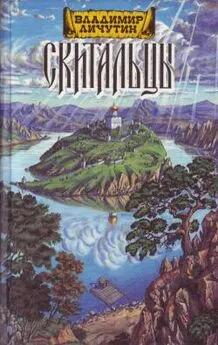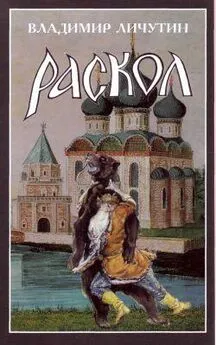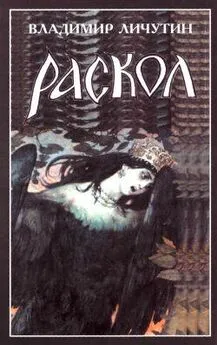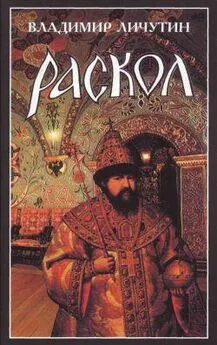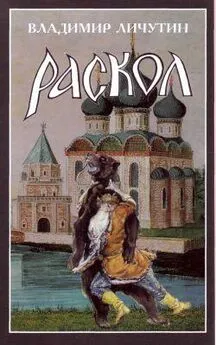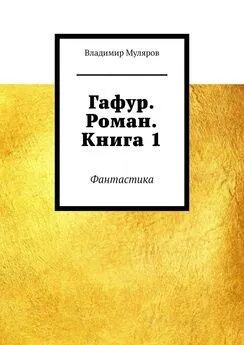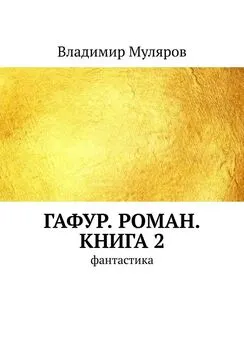Владимир Личутин - Раскол. Роман в 3-х книгах: Книга III. Вознесение
- Название:Раскол. Роман в 3-х книгах: Книга III. Вознесение
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Личутин - Раскол. Роман в 3-х книгах: Книга III. Вознесение краткое содержание
Владимир Личутин впервые в современной прозе обращается к теме русского религиозного раскола - этой национальной драме, что постигла Русь в XVII веке и сопровождает русский народ и поныне.
Роман этот необычайно актуален: из далекого прошлого наши предки предупреждают нас, взывая к добру, ограждают от возможных бедствий, напоминают о славных страницах истории российской, когда «... в какой-нибудь десяток лет Русь неслыханно обросла землями и вновь стала великою».
Роман «Раскол», издаваемый в 3-х книгах: «Венчание на царство», «Крестный путь» и «Вознесение», отличается остросюжетным, напряженным действием, точно передающим дух времени, колорит истории, характеры реальных исторических лиц - протопопа Аввакума, патриарха Никона.
Читателя ожидает погружение в живописный мир русского быта и образов XVII века.
Раскол. Роман в 3-х книгах: Книга III. Вознесение - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Глава вторая
Говорят, де, годы опадают, как осеннее платье с дерев.
Нет-нет... Лист плотно и бессловесно устилает мать – сыру землю, чтобы в этой жаркой перине упрело и проклюнуло новое невинное дитя. Лист, никогда не грешащий, помнит и влажную клейкую почку детства, и шелестящее под ветром невинное изумрудное отрочество, и подвенечное платно меженной поры, и багряно-пеструю старость, и банную прель подступающей радостной смерти.
Годы же прожитые безобразно наги и неотзывчивы, они, безродные, отлетают прочь в дегтярное варево ночи и укладываются в неведомые таинственные скрыни жадного Мамоны, как потрошеные гуси, засоленные в кади. Они порою горделиво пыщатся, издалека напоминая о себе, но ничего не рождают, кроме печали и глупого торжества, с каким обжора смотрит на разгромленное застолье с остатками еды; вот-де сколько лет мною сиротой укладено пожитками на загорбок. Ну, ветхий попишко, волочу их по ухабам, и что в том радости? Глупый я человеченко, ни к чему не годно, но лишь ворчу и лаю из ямы от болезни сердца своего. И собака такочки лает из своей конуры из-за мисы похлебки. Усердствуй, животинка, храни двор хозяина, и зачтется твоя сноровка на мясоед бараньей лопаткой. Ради него мечу на дверном косяке прожитые лета, вроде бы чем-то они рознятся меж себя? Той и радости, что тяну канон о Господе и могу поплакать о скорбящих, и направить на путь истинный заблудших, кто сердцем еще не онемел, как Федька-дьякон, собака косая, дурак и страдник, гнилой уд... Ишь вот, еще о прошлом лете пыщился еретник, де отсеченная пясть не сохнет и не тлеет, а светится на тябле под образами, как свеща неугасимая. И вдруг середка зимы взвыл, де, гнилой человечиной запахло, и упросил стрельца кинуть измозглое мясо собакам на поедь иль закопать где близ церкви... Ишь вот, печется о себе смрадный пес, хочет земной славы, чтобы кланялись его костям заблудшие бабенки и сельские дурни...
Ах, да чего же я-то взыграл? Ну его, беса косого, к свиньям, пусть пропадает, пусть летит в тартарары, коли из ума выпал...
... Вот и год минул от казни, и снова шалый ветер с лета потянул, запахло прелью болотной, водой подснежницей, костровым дымом, смолью, рыбьими черевами; куропти за кладбищем занявгали, затявкали псецы, на Виселичном мысу у протоки радостно затенькали топоры – это пустозерские мужики новят-латают речную и морскую посуду. Вчерась в острожке с земляных засыпух навесились длинные сосули, желто-зеленые, как сахарные жамки. Помнится, в детстве-то как радостно было их сосать; обжигали ледыхи до самой утробы, но сладили, как мед; сколько за эту проказу перепадало от мамки... Ишь вот, чего вспомнил, какую зряшную малость, значит, не вовсе пропащи и безмолвны те лета. Только тянутся они по ухабам, как кладбищенская телега, и костяная голова в домовинке на каждой зажоре и кочке: гряк да гряк. Поблек, сивый мерин, посерел, замучнился и сбледнел тощим лицом, как моль-крестоватик, что мечется вокруг огня, не боясь сгореть: прижать пуще – останется одна пыль; и волос покинул дурную голову, заголилась тыковка, как баранье голенище, и негде теперь спрятаться вошам, разве что полезут пониже пупенца в чащобное укромное тепло; а бороденка потонела, потекла с груди, стала как просяной веничек и покрасилась в серебро, и пальцы на руках взялись шишками, и ногти загнулись, как у ворона-крагуя, только малых детишек пугать има...
Когда на северах оцинжает человек, его поначалу ест беспричинная печаль, и тогда не находит поморянин себе места, порываясь куда-то бежать, иль плачет и смеется без повода; после черная кровь с дурным запахом пойдет из десен, и зубы станут вываливаться, как худая огорожа, и нёбо покроется язвами; а уж когда середь бела дня будет подкатывать на лавку девка-маруха, прижиматься к ознобному боку огняным похотливым телом и вытворять с беспамятным христовеньким всякие любострастные игрища – тут уж запевай отходную и проси поскорее ладить гробишко.
Вот и Аввакумище, креневой человек, свилеватый да жиловатый, обильный духом и семенем, и тот на десятое лето пустозерского сидения вдруг поиструхнул в одну зиму и почти все зубы порастерял, и на голени кинулись синюшные пятна, а в костях заселилась ломота, а под сердцем гнетея... Мил человек, не дивися тому: поживи-ка в воде всю весну да погрызи сухарик из высевок и мха, а зимусь повыбивай ночами чечетку от стужи – вот тогда я послушаю, каково запоешь, распобедная головушка...
... Нет-нет, любодейный царишко, не засунуть тебе меня в ямку прежь времен. Дождуся, когда загремишь ты в преисподнюю под грай вранов, и только ради этого радостного дня буду упираться из последних сил, на одной злости выеду, всеми сомлелыми своими мослами отобьюся от кладбищенских собак, что как шакалы вьются вкруг засыпухи; значит, вдоволь я протух и провонял...
Аввакум высунулся в проруб, крикнул караульщику, попросил дров насечь. Лихорадка забирала, а к ночи на воле обещался мороз. Мельком оглядел три земляных бугра напротив, не покажется ли в дыре чье лицо; не всяк затворился в своей норе и переживал тяготу наособицу, коротал часы наедине с Богом. Аввакуму же хотелось покричать, выплеснуть зло на Федьку Косого иль хотя бы увидеть его белесую, как редька, ехидно-умильную мерзкую рожу и плюнуть в ту сторону. Ишь, супостат, вчерась обозвал протопопа свиньей, что хрюкает у корыта да дух чижолый испускает, улягшись брюхом в назьме; а он-де, дьякон Федор, небесные тайны вещает, веруя в единую Троицу.
Лютый лис и обманщик, он в один из дней и бедного старца Епифания обольстил, перетянул на свою сторону... Ах, пес бешаный, залучить бы хоть на седьмицу к себе в житье, я бы тут научил тебя шелопом Бога блюсти, не сливая его в жидовскую единицу, перестал бы ты сучиться над святою книгою, поливая ее сатанинской отрыжкою...
Отвлек стрелец, подал в окно скудную охапку елушника, суковатого, зальделого, не дрова – горе, да и им станешь рад, хоть дыму досадного, но теплого напустить в изобку. Еще камбал кислых – от самоеда Тассыя гостинец – кинул, зажав нос: де, жори, старик, наедай шею. Эх, какой благодатный дух прокатился по каморе, хоть святых выноси, словно бы мяса сохачьего наквасили для опарышей, потомив его в тепле с неделю. Прежде-то, как на Мезень приехать, брезговал Аввакум такой едою, нос воротил в сторону, да нужа и стужа любой нрав переладят. Всё по писанию: не то скверно, что в нас входит, но что исходит...
Пока растопишь печь, всякий раз наплачешься. Зато после душой отмякнешь. Хоть и скуден, и шипуч огонь от хилых мокрых дровишек, и дыму полна хижа, но как возьмет силу древесный жар, то всякий раз так заманчиво смотреть в россыпь золотых угольев, по коим пляшут, завораживая, как на веселой свадебке, рыжие, и червчатые, и брусеничные, и клюковные, и морошечные, и янтарные языки пламени; Господи, сколько радости-то в огне, сколько жизни, да так ли страшно повенчаться с ним?
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: