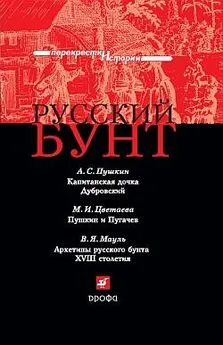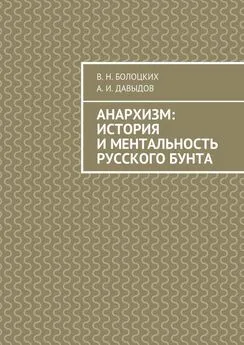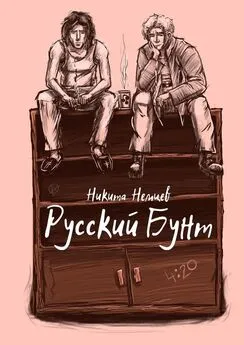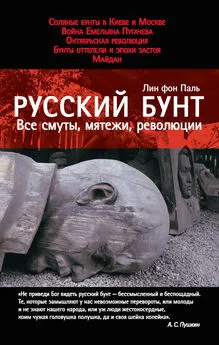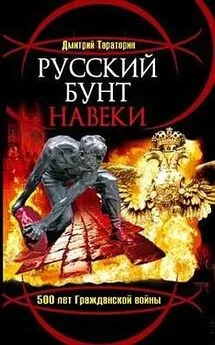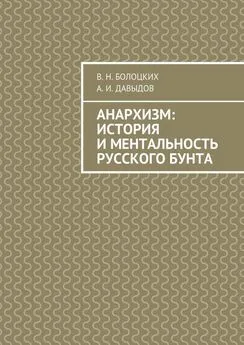В. Мауль - Русский бунт
- Название:Русский бунт
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Дрофа»d9689c58-c7e2-102c-81aa-4a0e69e2345a
- Год:2007
- Город:Москва
- ISBN:978-5-358-00760-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
В. Мауль - Русский бунт краткое содержание
Эта книга объединяет произведения А. С. Пушкина и М. И. Цветаевой, представителей Золотого и Серебряного века русской литературы. Но здесь они выступают как историки, ни на секунду не переставая быть теми, кем были, – величайшими поэтами. Отсюда – синтез науки и искусства, историческая достоверность и яркость повествования. В центре внимания такой феномен отечественной истории, как бунт. Каковы его глубинные истоки? Почему важно осмыслить русский бунт, опираясь на характер и ценности эпохи, его породившей? Так ли уж он бессмыслен? Возможен ли русский бунт сегодня? На эти и многие другие вопросы поможет ответить очерк В. Я. Мауля, основанный на многочисленных документах и исследованиях.
Для широкого круга читателей.
Русский бунт - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
На допросе под давлением следователей сам Пугачев «во всех чинимых им злодействах винился и показывал... как он, так и злодейской его шайки товарыщи, чинили... раззорение святым церквам и всем освященным в них сосудам и даже разрушением правилов, святых жертвенников и самых святых икон, с ругательством колонием оных, также и в убивствах в святых церквах священников и других людей, кои думали получить от тиранства злодейской его толпы спасение, были ж умерщвлены» [36; 221].
Такое отношение дворян к протестным действиям бунтарей обосновывало подозрения в возможной связи Пугачева с «чужими», «иными» землями, о чем очень беспокоилась сама императрица. Сообщая о действиях Пугачева, его сравнивали, например, с самозванцем Степаном Малым, «который в 1767 – 1773 годах владел Черной Горой и которого местное население принимало за русского царя Петра III». В Оренбурге, писал в своем донесении в Коллегию иностранных дел генерал Орлов, появился самозванец, «нечто похожее на Степана Малого в Черногории» [6; 399].
В другом случае, высказывая тревогу о возможных связях Пугачева с иностранными державами, правительство больше всего беспокоилось уже не о «дьявольских кознях» с их или его стороны, а об отстаивании своих внешнеполитических интересов. Иначе говоря, реакция дворянства на пугачевщину, хотя иной раз и адресовалась к традиции, в целом была вполне прагматичной и рациональной. И тем не менее представители господствовавшего и других сословий втягивались в затеянную казаками в условиях пугачевского бунта «игру в царя», будучи не в состоянии противостоять ее чарующей магии, что в культурной истории страны не было редкостью. К тому же любая игра заразительна, тем более «игра в царя», обладавшая особым магнетизмом, мистической привлекательностью. Да и как им не быть? Ведь ставкой в этой игре был не денежный приз, пусть и очень крупный. На кону стояла сама жизнь. Такая игра словно завораживала всех вокруг, интриговала, заинтересовывала и, как следствие, вела к расширению состава играющих. Дворянство сначала просто наблюдало за игрой. Находясь в числе «зрителей», негодовало на происходящее, требовало и стремилось пресечь завораживающее зрелище.
Недостойное, на первый взгляд, поведение графа П. И. Панина, публично и демонстративно таскавшего Пугачева за бороду, становится понятным на игровом языке как символическое, карнавальное разоблачение. В контексте смеховой культуры брань и побои развенчивают царя. Многое говорит в пользу того, что поступок Панина – это не просто способ причинить физическую боль, но акт именно символический. Дело в том, что в традиционном обществе борода также была знаком достоинства, символом свободы и почестей. Отрезать или выдрать бороду всегда считалось тяжким оскорблением.
Вспомним, например, что в начале XVII века расправа Б. Ф. Годунова над боярином Б. Я. Бельским заключалась, помимо прочего, в том, что у него вырвали «клок за клоком всю его длинную, окладистую бороду, тем самым полностью обесчестив его». Но вот что любопытно: поводом к такой расправе послужили подозрения в связях опального вельможи с нечистой силой. По словам современников, «Богдан Бельский знает всякие зелья, добрые и лихие… да и то знает, что кому добро зделать, а чем ково испортить» [111; 173, 167].
Не забудем, что в древнерусской иконописной традиции безбородыми принято было изображать бесов. Таким образом, наказание, которому подвергся Пугачев от рук карателя, вновь адресует нас к противопоставлению Божьего мира и колдовского, сатанинского антимира. О символической мотивации своих действий сам же Панин сообщал брату в письме от 1 октября 1774 года: «Отведал он [Пугачев. – В. М .] от распаленной на его злодеянии моей крови несколько пощочин, а борода, которою он Российское государство жаловал, – довольного дранья» [30; 108].
Оказавшись на краю пропасти, дворяне все чаще пытаются говорить на понятном народу языке смеха. Разоблачая самозваного императора, они интуитивно апеллируют к «карнавальному» образу Пугачева-Петра III. Его интерпретируют как «царя»-само-званца, т. е. представителя колдовского, вывороченного мира. В системе образов смехового, карнавального мира короля всенародно избирают, а затем его же всенародно осмеивают, ругают и бьют, когда время его царствования истекает.
Подобным унижениям и уничижениям подвергался и повстанческий предводитель. Один из участников подавления пугачевщины Г. Р. Державин сообщал, как по приказу Панина пленный Пугачев стоял на коленях, пока с ним высокомерно говорил хозяин дома. «Сие было сделано для того, сколько по обстоятельствам догадаться можно было, что граф весьма превозносился тем, что самозванец у него в руках» [26; 60]. Подобное поведение «душителя» народного бунта можно рассматривать как ритуальное, а значит – публичное, разоблачение символически-высокого статуса пленника, которое, несомненно, приносило ожидаемый эффект. Оно было вполне понятно простонародью и способствовало развенчанию самозванца в его глазах.
Из «милосердия», как утверждалось, Пугачева даже казнили «наоборот». Ему не стали последовательно и поочередно отрубать все четыре конечности, а затем голову, что, собственно, и предполагала казнь четвертованием. Московскому обер-полицмейстеру Н. П. Архарову было секретно подсказано, «чтоб он прежде приказал отсечь голову, а потом уже остальное, сказав после, ежели бы кто ево о сем стал спрашивать, что как в сентенции о том ничево не сказано, примеров же такому наказанию еще не было, следовательно, ежели и есть ошибка, оная извинительна быть может» [29; 146].
В результате во время казни произошло «нечто странное и неожиданное: вместо того, чтоб в силу сентенции, наперед его четвертовать и отрубить ему руки и ноги, палач вдруг отрубил ему голову». Однако смеховая символика казни «наоборот» не была понята свидетелями и современниками из среды знати. А. Т. Болотов отметил в мемуарах: «…и богу уже известно, каким образом это сделалось: не то палач был к тому от злодеев подкуплен, чтоб он не дал ему долго мучиться, не то произошло от действительной ошибки и смятения палача, никогда еще в жизнь своей смертной казни не производившего» [38; 489 – 490].
Видим, что просвещенные дворяне искали объяснения произошедшему с позиций формальной логики, в то время как возможна и символически-смеховая трактовка этой расправы «наоборот».
О том, что своеобразная знаковая «начинка» присутствовала в действиях господ, боровшихся с пугачевщиной, свидетельствуют и так называемые символические казни в отсутствие живого преступника. Можно выделить несколько видов такой экзекуции: казни трупов, казни документов и предметов, казни изображений преступников и т. п.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: