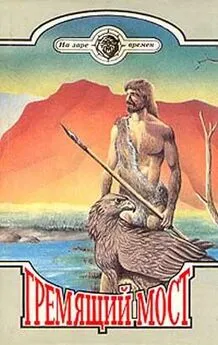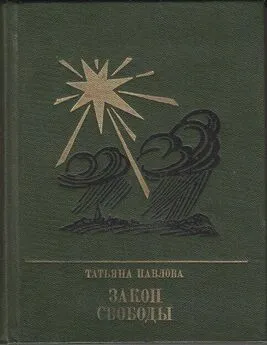Владимир Гусев - Горизонты свободы: Повесть о Симоне Боливаре
- Название:Горизонты свободы: Повесть о Симоне Боливаре
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Политиздат
- Год:1972
- Город:М.
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Гусев - Горизонты свободы: Повесть о Симоне Боливаре краткое содержание
Владимир Гусев — прозаик, критик, кандидат филологических наук. Он автор литературоведческой книги «В середине века», прозаической — «Утро и день», повестей «Душа-Наташа», «Жизнь. Двенадцать месяцев», множества рассказов, около двухсот статей, рецензий, очерков.
Для Гусева-писателя характерен интерес к духовным проблемам в социальном их выражении, к вопросам ответственности человека перед собой и перед обществом, взаимоотношений человека и природы.
Новая его книга посвящена Боливару — руководителю и герою борьбы за независимость латиноамериканских народов в начале XIX века.
Повесть пронизана пафосом революционного подвига, в ней находят отражение проблемы отношения революционера к народным массам, революционного действия к нравственному началу жизни.
Горизонты свободы: Повесть о Симоне Боливаре - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Он живо вспомнил жуткое шествие по обледеневшим камням вверх, вверх — и тот ветер, обнаглевший, полный морозной пыли, и горькое безмолвное бдение одичалых людей и животных, и мглу, и близящуюся белую темень, и переход по камням, перегородившим пропасть, и крики людей, медленно скатывающихся по голым и гладким глыбам туда, в темь, и взгляды оставшихся сверху, и зыбкий, нереальный канатный мост, бог знает кем — какими индейцами или тенями мирных, таинственных, южных инков, века назад ушедших от суетных плоскогорий к туманным вершинам, на небеса, растворившихся в небе и в снеге, — тут возведенный меж двух полуотвесных каменных стен в насмешку равнинным людям — льянерос — и горожанам; и трепет под ногами переплетенных лиан, будто на крыльях кондоров принесенных снизу, и качка, и колебания, и скрип моста — огромного гамака, растянутого меж двумя почти отвесными стенами; и провисание в середине, и трепет зыбких канатов-лиан, протянутых вместо перил, и тьма и туман под ногами средь жидких и нежных лиан, и падение мулов, людей и повозок в пропасть — их дикие, удаляющиеся в тумане крики, — и затхлое замирание сердца на том конце, у самой стены, когда требуется идти чуть вверх — провисший гамак! — и освобождение сердца на твердой почве, и шествие, и скольжение по обледенелым камням, и льды. Что ж, было. Все позади.
Это позади; но иное — еще впереди.
Он вгляделся в пустынный, казалось бы, молчаливый лагерь, приютившийся под защитой хребта, седловины, зубцов и скал — с этой, с испанской стороны горной цепи. Пройден перевал Писбы, и нельзя разжигать костры, иначе весь этот долгий поход теряет свой первый смысл: огни с перевала будут видны до Боготы. Укутавшись в одеяла и шкуры, скорчившись и прижавшись друг к другу, сидят и лежат, отдыхают солдаты, воины у края невидимого парамо; их не слышно, лишь там, туазах [5] Туаз — около двух метров.
в пятидесяти, надрывается криком единственный человек: рожает жена солдата, добравшаяся до поднебесья по ледяным тропинкам. Что ж, природа. Сколько мужчин не дошло до этого перевала! Он походил, попрыгал по камням, полез назад к своему чернеющему жилищу.
Неожиданно в серебристом огне засиял перед взором мерцающий, явственный женский облик; в нем не было определенности и подробности, однако он был волнующ и трогателен.
В минуты тьмы, сиротливости, испытания и особой тревоги этот образ являлся особенно чутко, хотя присутствовал в буднях сердца всегда; то была не Мария и не иная живущая, жившая женщина; то была некая, та, которую помнит он с детства и так и не видел в реальной утренней жизни. Она была почему-то жгуче, иссиня-темноволоса, ясно блестели ее глаза и кожа, дрожали темнеющие ресницы. И ныне она явилась на миг слепяще и ясно — и вновь невидимо отступила в сумерки. Он позвал ее взором, душой — но уж она не вышла, не выступила на свет, хотя и была, смотрела в душе незримо.

Он подошел; могильно глянуло из скалы идеально черное, как тихое жерло ада, отверстие этой каменной хижины, будто бы приготовленной темными силами ночи, чтобы замуровать в себе все живое. Что это? Что за дом? никто не знал этого; кого приютила пред смертью могущественная, нагая скала? что за ужас скрывается в этой хижине, в этой пещере? никто не знал; только ветер загадочно воет у входа, только садятся на кожу лицá, на пончо, на плащ замученные соломины, мушки и травки, взнесенные снизу, из благостных, ярких, зеленых и желтых долин и рощ и этот незримый водоворот стихий, первое и голое парамо под седловиной. Он знает это: в горах, среди вечных снегов и льдов, вдруг увидишь трупик распластанной белой иль желтой бабочки, плавно влекомый силой воздушных токов, травину, соломину, москитов и мошек, поднятых из долин. Таковы законы высокого воздуха в этих горах: снизу — наискось вверх. В чем дело? Влияет ли тут далекий пассат с Великого океана? Иль дело в самих парамо, в самих ледяных вершинах? И почему вот здесь, у входа в это темнеющее, ледяное жилище, особенно сильны все эти потоки, сны, завихрения, этот шелест мертвых соломинок с дальнего плоскогорья? кто знает, кто знает…
Быть может, маги и колдуны, далекие чародеи инки, дети Тупак Юпанки, потомки светлого Солнца, нашли в этом каменном доме последний приют, гонимые новым, самоуверенным и жестоким колдовством пушек и чарами пороха, блеском сабель и солнцем взрывов? Дремуча и далека их суровая родина, Мачу-Пикчу, но долог век рода людского, долог век гонимого племени, и неведомы бдения и пути его. Быть может, одинокий отшельник окончил дни близ сияющих древним алмазом вершин? Кто знает… Лишь череп — выветренный, старинный — в гранитном доме-пещере, сыром и одетом камнем по стенам, с полу и с потолка; и нет даже других костей. Нет.
Он наклонился, нырнул как в разверстую собственную могилу в сырую, промозглую, в зияющую черноту и нащупал на поясе трут; прошел через своеобразные сени в «комнату» — шагнул через каменный выступ-порог — высек искру. На каменной плоской глыбе — столе сурово и тускло блеснул железом и стеклами умный прибор — секстант Рамсдена. Он ощутил в руке остылый, враждебный металл; тем не менее прикосновение к филигранным деталям, винтикам неуловимо остудило душу от снов, вернуло ее сознанию и делу.
Какой он странный, несовершенный, какое он вязкое существо при всей его маниакальности, воле. Он деловит и крепок, и он… он… как это называется? Как зовут они? Романтизм . Новое поветрие в гулкой Европе. Как далеко, далеко. Романтизм: «роман», романская раса. Таинственность, буря, и сила духа, и поиск… Что он за человек?
…Ужасающий вопль летевшего в пропасть там, на мосту… Романтизм?
Он остановился с секстантом в руках, задумчиво гладя эмалевый металл. Он не мог определить свою мысль; собственно, ее и не было, была лишь тревога, не связанная с тревогой грядущего боя, возможной смерти. Другая тревога, но он не знал ее сути. Но как же промозгло, зябко. Безмолвно, темно вокруг и темно в душе, и сырое, тяжелое дыхание камня.
Он все стоял и стоял, глядя в сырую темноту жилища, почти физически чувствуя гул шумливого мира у ног своих, у этой черной бездны, этой небесной могилы, не в силах выйти (чтоб попытаться в полуреальной синеве, белизне этой ночи определить перепад склона, с которого им спускаться завтра).
Под маленьким окном, обнаруживавшим большую толщу стены и уныло мерцавшим в изломе камня на полувнятный небесный свет, заскрипели по льдинкам и по камням шаги; приближались его часовые, ходившие, чтоб согреться, туда-сюда и, видимо, даже не заметившие, как он проник в черную дверь. Фернандо вещал:
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: