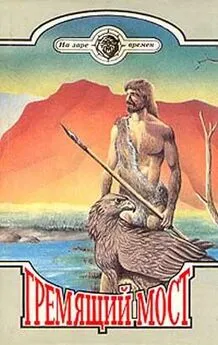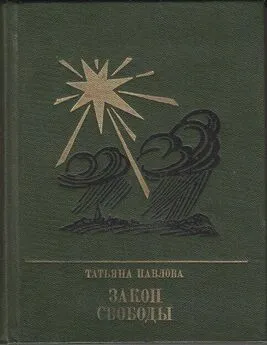Владимир Гусев - Горизонты свободы: Повесть о Симоне Боливаре
- Название:Горизонты свободы: Повесть о Симоне Боливаре
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Политиздат
- Год:1972
- Город:М.
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Гусев - Горизонты свободы: Повесть о Симоне Боливаре краткое содержание
Владимир Гусев — прозаик, критик, кандидат филологических наук. Он автор литературоведческой книги «В середине века», прозаической — «Утро и день», повестей «Душа-Наташа», «Жизнь. Двенадцать месяцев», множества рассказов, около двухсот статей, рецензий, очерков.
Для Гусева-писателя характерен интерес к духовным проблемам в социальном их выражении, к вопросам ответственности человека перед собой и перед обществом, взаимоотношений человека и природы.
Новая его книга посвящена Боливару — руководителю и герою борьбы за независимость латиноамериканских народов в начале XIX века.
Повесть пронизана пафосом революционного подвига, в ней находят отражение проблемы отношения революционера к народным массам, революционного действия к нравственному началу жизни.
Горизонты свободы: Повесть о Симоне Боливаре - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
— Опоссум был хитрый, хитрей человека, он напустил на его дочерей змея. Прошло два месяца, живот младшей дочери начал пухнуть. — Отчего пухнет твой живот? спросил ее человек. — Я не знаю, — сказала дочь. Мне во сне приснилось, что в меня вползал змей, и с тех пор он пухнет. Еще через несколько месяцев она родила кучу мелких змеенышей. Перед этим она долго не могла разродиться. Ее мазали красным соком уруку, давали глодать шипы волшебного кактуса…
Унылость и ледяное дыхание ночи, таинственная тревога, чернь, синева, и снег, и загробный ветер, и льды, и сырость, и череп неведомого страдальца где-то под сапогом, и неверный свет, и манящая белизна, чернота из окна и пред мысленным взором, и вопли оставшихся в гиблой жиже и падающих в безмолвную пропасть пред мысленным слухом, и эта гиблая, дикая сказка, этот Фернандо.
— Эй, замолчи! Останови свое идиотство, слышишь! Ну что за идиот! — завопил Освободитель Боливар, выскакивая из черной пасти жилища, как из разверстой могилы. — Ну что за болтун, я не знаю!
Последние слова он произнес тоном ниже, ибо увидел, что само его появление произвело на солдат вполне подавляющее впечатление: они шарахнулись, грохнув ружьями о ближайшие глыбы, и, остановившись, согнувшись и дрожа, благоговейно и в страхе слушали ругань рассерженного господа бога сеньора Боливара, возникшего из черного небытия. «Мне — не стыдно? они сторожат меня . Руссо и Шатобриан… вояка… равенство, братство», — спокойно и обыденно прошло в голове; о темной промозглости не было и помина в сердце. Он помычал смущенно и пробормотал еще ниже тоном:
— Ну разве так можно, Фернандо? Ведь ты надоел со своими сказками. Тут и так темно, ночь, люди устали, а ты еще болтаешь глупости: змей, опоссум, понародила змеенышей. Разве так можно?
Фернандо молчал, и Боливар себя почувствовал вовсе неловко. «Сын Просвещения, черт побери! В сущности я, выходит, невежественней его?»
— Послушай, Фернандо, — уже почти заискивающе заговорил Боливар. — И где ты набрался этих сказаний?
— От бабки по отцу, Освободитель, — как-то недоверчиво (неужели Боливар спрашивает об этом? ) сказал Фернандо. — Она ведь знала сказания чуть не всех индейских племен Америки. Я их перепутал, эти их байки. А уж откуда она их знала, бог ее знает, — развел руками (в одной ружье) Фернандо. — Бог весть, — добавил он, снова кутаясь в одеяло и тоже несколько заискивающе глядя на генерала. Боливару снова стало неловко. И все-таки он не удержался и выразил свое подлинное мнение:
- У тебя нет таланта рассказчика, знаешь, Фернандо. Сказки эти — из дикости и невежества, а ты еще не умеешь рассказывать. Впрочем, дело не в самой дикости, а в том, кто записывает, рассказывает. Думаю, народ сам по себе не может быть туп и дик, а просто не нашлось человека, да.
В лице Боливара были смущение, чуткость и нежелание обидеть, и одновременная искренность, неспособность соврать, и сомнение, раздражение, работа мысли — нежелание обидеть не только Фернандо, но сам народ, о котором он, видимо, думал в последние сроки немало неприятного, горького и, однако, хотел верить в него. И властность, и снова эти смущение, искренность, вера — все было в этом открытом, как поле, подвижном и тонком лице.
И Фернандо сказал:
— Вы здорово правы, Освободитель. Сказочник я никудышный. Да только охота…
Он прикоснулся ладонью к щеке.
— Охота мне.
— Я понимаю тебя, Фернандо, — искренне и в то же время несколько приосанившись (увидел, что тот не обиделся), отвечал Боливар. — Я понимаю. Да рассказывай себе на здоровье. Кому от этого вред, — вдруг сказал он с оттенком усталости, улыбнулся несколько картинно — но и это понравилось испанскому сердцу Фернандо! — потрепал его по обледенелому, холодно-ворсистому одеялу в том месте, где прощупывалось предплечье, — и вновь нырнул в свой могильный зев: наконец за секстантом.
Фернандо и тот, другой, помолчали.
— А все же хорош у нас командир, — убежденно-спокойно, задумчиво выговорил Фернандо.
— Это да.
— Пабло… это…
— Пабло в пропасти.
— Н-да.
— Н-да. Н-да.
— А тогда — хорошо он насчет Боливара.
— Хорошо.
— Царство небесное.
— Царство небесное, хотя бога, может, и нет.
— Да нет, есть, только не такой, как мы думаем.
— Это да, это так. А так — кто его знает. Никто этого не знает.
— Ну да. А как шли вчера — у меня одна щека, усина, одна сторона одеяла — во льду, в инее, а другая ничего.
— Да это у всех так было. Ветер такой.
— У всех?
— Ну да.
— А я и не видел.
— Не мудрено. Не до того.
Боливар вышел, неопределенно кивнув часовым, пошел в темноту.
Он спустился на три-четыре десятка туазов и только начал вертеть прибор, как услышал какое-то шевеление перед черным кустиком. Он насторожился: последние солдаты, молча привалившиеся к черным глыбам с подветренной стороны, остались сзади; а тут был кто-то другой.
Он, обнажив мачете, чуть подступил к кусту — и в безмолвном, задавленном, синем сиянии, полублеске и полутьме увидел отделившуюся от куста и попавшую в муторный полусвет открытого неба жалкую морду мистического, полуреального горного зверя — очкового медведя. Он вышел снизу, из непролазных и черных чащ, чтобы поживиться у смутного лагеря. Убогий и равнодушный посланец, «дух» этих гор… Его темная шерсть, его мертвецкие светлые кольца — круги у глаз, блесткие точки-глаза, вся его испуганная, широкая морда глядели пасмурно и уныло; он раскрыл пасть, высунул черный язык и, неуклюже оглядываясь через плечо, потрусил вниз и скрылся в белесом и синем дыме, во тьме.
Боливару стало вдруг неестественно грустно на сердце; он силился и не мог понять, в чем тут дело. «Хочу уйти сердцем — и вот не дают, не дают», — капризно, по-детски раздраженно подумал он — и при этих мысленных словах «не дают, не дают» представил лишь убегающего, уходящего вниз этого медведя - голодного, жалкого, так и не дошедшего до еды.
Ах ты, господи.
Утром он встал невыразимо бодрый и свежий, будто принявший душистую ванну иль побывавший в густо синем море; он сделал два-три движения руками вверх, в стороны, — поплясал, присев, на носках на циновке, подложенной денщиком Родриго, оделся и вышел из хижины.
У него на миг морозно и бодро остановилось дыхание — такое великолепие было вокруг; не было и следа тьмы и хмари, не было и следа сомнения, боли, хандры, охвативших вчера природу и с нею — усталую душу. Все было иначе.
Как ни в чем не бывало — как будто не было холода, тьмы, промозглости — голубело чистое небо; солнца — самого — было не видно, но оно ослепительной желтизной заливало серо-бледно-зеленое небольшое парамо, лежавшее прямо перед глазами и обрывавшееся в пропасть там, в полулье отсюда; прекраснейшей дымкой оттуда — из той слегка отдаленной пропасти — поднимался таинственный, ярко-синий и белый воздух, синеюще зеленела гора вдали, и сама эта густо-курящаяся, невидимая отсюда пропасть казалась загадочной и незримо-прекрасной; белели по сторонам чуть розовеющие, нежно-туманные и дымливые снежные выси пиков, чуть влево — там, внизу, где он встретил медведя, — виднелся пологий спуск в ту долину, в которую как бы впадала в пропасть; там, на пути, еще небольшая гряда холмов, а в отдалении — таинственно-синее, кобальтово-синее, как густая синька, прекрасное горное озеро. Ну а тут — залитое светлым, слепящим, многообильным и полным солнцем парамо над спадом, и зелень дальше, и небо, и эта тень от заднего, от пройденного этого склона, и серые, и зеленые, и бордовые гладкие и зубристые камни, и подтаявшие снег и лед, и тишь, и свежий, холодный, но не знобящий — солнечно-утренний — воздух, и бодрость, и свежесть, и свет в лучезарной, розовой, утренней свет-душе.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: