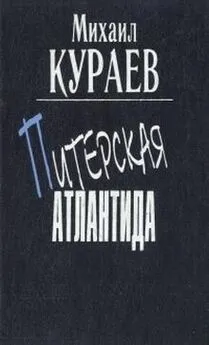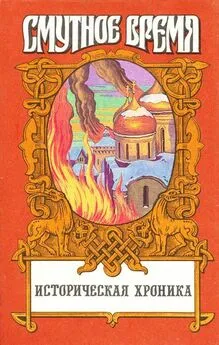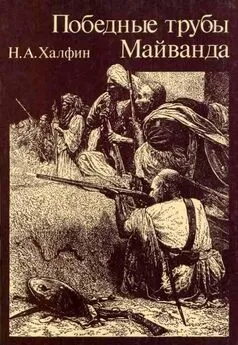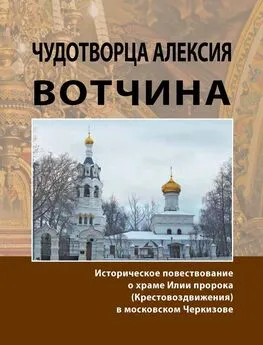Михаил Кураев - Саамский заговор [историческое повествование]
- Название:Саамский заговор [историческое повествование]
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Журнал Нева
- Год:2013
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Михаил Кураев - Саамский заговор [историческое повествование] краткое содержание
1938 год. Директор Мурманского краеведческого музея Алексей Алдымов обвинен в контрреволюционном заговоре: стремлении создать новое фашистское государство, забрав под него у России весь европейский Север — от Кольского полуострова до Урала.
Саамский заговор [историческое повествование] - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Люди старого обряда для следствия что суковатое полено для топора, с какой стороны ни бей, умаешься, пока расколешь. Ведь они как здороваются, не «здрасьте-привет», а наособицу, как пять сотен лет назад. «Господь среди нас», — кланяется один. «Есть и пребудет», — подтверждает другой. Так что получается, что втроем они всегда, о чем оба помнят. Если бы Иван Михайлович знал это приветствие, может быть, и бросил бы взгляд себе за спину, чтобы увидеть то, что всегда видел сидящий перед ним подследственный. Впрочем, ничего, кроме портрета Михаила Ивановича Калинина, Иван Михайлович бы не увидел.
А вот, к примеру, другой подследственный, православный саам Курехин, Сальма Нестерович, 1883 года рождения, хоть и неграмотный, да оказался крепким орехом, тоже пришлось попотеть, и все равно вышла осечка.
Протоколы можно трясти сколько угодно, и все равно не узнаешь, что спасло отца девяти детей от окончательной поездки в Ленинград, а спасла Сальму Нестеровича, скорее всего, прирожденная смешливость.
Жизнь его сложилась так счастливо, что он понимал всех вокруг и все вокруг понимали его. А то, что было ему не очень понятно, например, та же метеорология, занимающая целый дом и двор в Ловозере, так это незнание не доставляло ни ему, ни окружающим никакого беспокойства и никак не усложняло жизнь. Он видел, что русские одеваются не так, как саамы, живут в душных домах, а не в продуваемых ветерком вежах и тупах, ездят на лошадях, не умеющих бегать по снегу, а не на оленях, но это его нисколько не беспокоило, как не беспокоило, почему куропатка спит, зарывшись в снег, а белка на дереве.
Он понимал куропатку и понимал белку и был уверен, что и они его понимают. Скорее, это было не совсем понимание, это было доверие, доверие разуму куропатки, которая знает, что делает, доверие и белке, которая тоже лучше его, саама, знает, где ей ночевать и как выводить своих детенышей. Он доверял этому миру, верил в его мудрое устройство и был убежден в том, что и куропатка, и белка так же понимают и его, немолодого саама, и так же ему доверяют. Когда он накидывал аркан на шею избранного к закланию оленя, он улыбался и не верил, что упирающийся олень не хочет стать радостью для его семьи. Олень упирается точно так же, как толкает в грудь, упирается девушка, хотя хочет того же, чего хочет и сам веселый Сальма Нестерович. Он смеялся, когда стискивал в своих объятиях девушку, и смеялся, когда выбирал в стаде хорошего зрелого быка для домашнего пира.
— Не сердись, большой начальник, — сказал подследственный Курехин через пятьдесят минут допроса. Он чуть склонил к плечу голову, торчащую из круглого мехового воротника, как из спасательного круга, сощурил свои и без того узкие глазки и с хитрецой улыбнулся. — Отдай мне винтовку, и я пойду домой. Погода плохой. Охота не будет.
Воротник печока был из шкуры росомахи, на ней не оседает иней. Реденькая, как у всех старых саамов, борода подследственного смешивалась с меховым ворсом воротника. Седого, а тем более лысого саама не встретишь, а проседь если и пробивается в волосах, так только после пятидесяти.
И если бы у Сальмы Нестеровича не просвечивала застрявшим и забывшим растаять мелким снегом редкая седина на висках, его и вовсе можно было бы за малый рост и простодушную улыбку принять за подростка.
Весь подследственный так был упакован в оленьи и еще черт знает какие шкуры, что бить его можно было хоть оглоблей и ничего не выбить. Можно было выбить зубы, но смеющийся рот смотрел на Ивана Михайловича какими-то остатками редких полугнилых пеньков, да и обветренное, изрезанное морщинами округлое лицо, то ли прокоптившееся в дымной тупе, то ли не потерявшее загара за зиму, казалось выкованным из меди.
Тут любой на месте Ивана Михайловича не выдержал бы, не выдержал и Иван Михайлович. Он достал наган и дважды грохнул рукояткой по столу, да так, что с двухтумбового письменного стола со светлой столешницей, крытой в середине черным дерматином, чуть не слетел массивный чернильный прибор из яшмы, в свое время конфискованный его предшественником у ижемца купца Терентьева, того, что завел в Ловозере замшевую фабрику. Чернильным прибором был купчина вознагражден от епархиального управления, посильно упреждавшего воздаяние небесное, за то, что Терентьев заготовил и доставил четыреста бревен на строительство новой церкви, когда Богоявленская в Ловозере сгорела.
Ни один мускул не дрогнул на обожженном морозом и помятом ветрами лице Сальмы Нестеровича, впрочем, выражение лица было не столько удивленное, сколько выжидательное.
«Зачем наган стучал? — спрашивал себя подследственный, уставившись прищуренными глазами в лицо следователя. — Зачем слова не говорил? Медведя понимал. Белку понимал. Начальника не понимал».
Сальма Нестерович был полон желания помочь сердитому начальнику и не знал, как это сделать.
Иван Михайлович обычно после ударов наганом по столу приходил в такой азарт, что переход к «особым методам дознания» был легким и естественным. Но что-то сдерживало его порыв. И он знал это «что-то». Он видел, видел устремленный на него взгляд. В нем не было той уверенности разного рода начальников, которых приходилось обламывать на допросе. Не было ни злобы, ни страха, ни тупой безнадежности, предвестника скорого и благополучного конца допроса…
«Да может ли этого чурбака что-нибудь напугать?!» — усомнился видавший виды офицер госбезопасности.
В устремленных на него внимательных глазах, в легком наклоне головы, в сосредоточенности и внимании было столько участия… Вместо страха — внимание, вместо желания спастись — сочувствие. И без тени укора. Да, Ивану Михайловичу случалось, и не раз, слышать от поднимающегося с пола подследственного жалкие слова: «Что же вы делаете?»
А ведь именно этот вопрос больше всего и занимал Сальму Нестеровича, но не в плане укоризны, а в самом прямом. За долгую жизнь он встречал разных людей, и знакомство начиналось с ответа на вопрос: «Что делаешь?» Рыбак. Понятно. Охотник. Понятно. Врач. Продавец. Милиционер. Тоже понятно. Начальник в исполкоме говорит «можно», говорит «нельзя». Понятно. «Что делает сердитый начальник? Непонятно…»
Бубен пританцовывающего и припадающего с одной ноги на другую нойда был для саама Курехина куда понятней, чем слова сердитого начальника в военной гимнастерке, из-под расстегнутого ворота которой выглядывал поддетый свитер. У шамана-нойда тоже была подвеска-звезда, но Сальма Нестерович знал, для чего она. Она может освещать путь, если вдруг нойда попадет в Нижний мир, без этой звезды в Верхний мир не подняться. У сердитого начальника тоже была звезда, над карманом военной рубахи. Углы звезды были пунцовыми, словно налитыми брусничным соком, очень красивая звезда, но куда она ведет или откуда может вывести, подследственный Курехин не знал, но был уверен, что сердитый начальник об этом знает точно. Хотел спросить, улыбался и выжидал подходящий момент.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
![Обложка книги Михаил Кураев - Саамский заговор [историческое повествование]](/books/433685/mihail-kuraev-saamskij-zagovor-istoricheskoe-poves.webp)