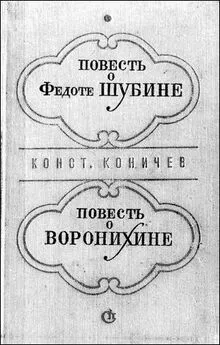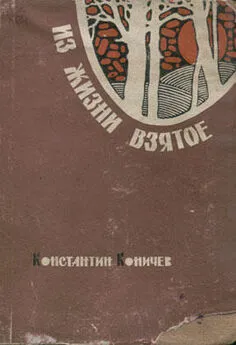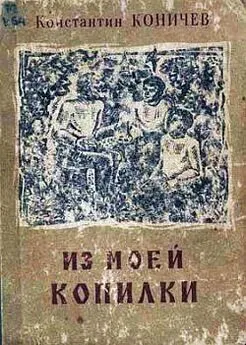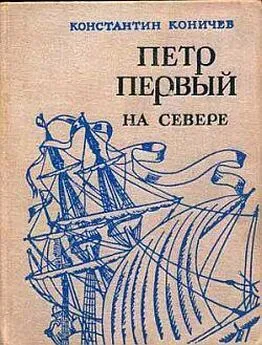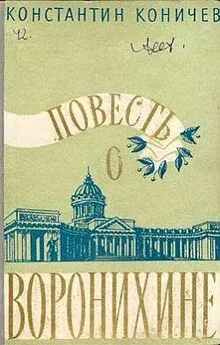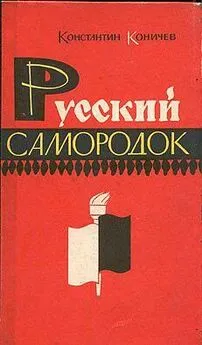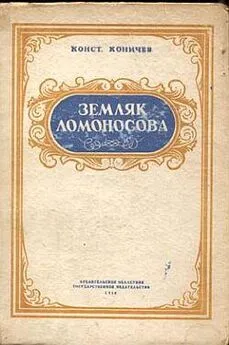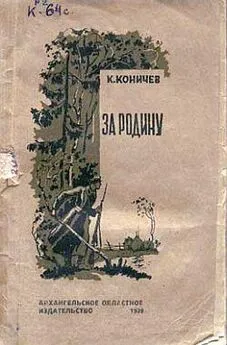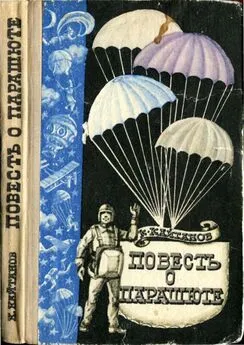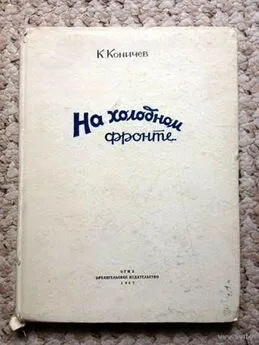Константин Коничев - Повесть о Федоте Шубине
- Название:Повесть о Федоте Шубине
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Советский писатель Ленинградское отделение
- Год:1973
- Город:Ленинград
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Константин Коничев - Повесть о Федоте Шубине краткое содержание
Повесть о Федоте Шубине - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
— Я это делаю потому, — объяснял Шубин свое пристрастие к истории, — что мои работы будут смотреть и судить на экзамене не одни французы. А что касаемо русских персон, то я не представляю, кто из них не имеет чистосердечного расположения к истории России. А потом, — добавил он, вспоминая чьи-то наставления, — если наша Академия упражняется в воспитании добродетели, то не лучше ли ради этого изображать великих людей из истории своего отечества и через это умножать любовь к родине? Но художественные исторические предметы делаются не только руками, но и головой, не поразмыслив над историей, можно легко изуродовать ее лицо…
Как-то после занятий в Академии Шубин уединился в общежитие и сидел за древними историческими книгами. Читая, он делал для закрепления в памяти выписки:
«В старину, далекую от нас, мудрый Сократ в беседе со скульптором Клитоном говаривал: „Ваятель должен в своих произведениях выражать состояние духа изображаемого“, что приемлемо и для нас, будущих скульпторов. Он же, Сократ, говаривал: „Статуям должно придавать то свойствие, кое привлекает и удивляет людей при взгляде на статуи, ибо последние живыми кажутся…“ И в этом прав был мудрец… Во времена киевского князя Владимира до принятия христианства, как явствует из древних летописей, на Руси были статуи богов: каменные, медные и деревянные, а идол Зухия был из злата кован, а другой бог делан из древа и серебра. Из древних сказаний ведомо нам, что ветры — внуки Стрибога — в представлении людей воображались и, видимо, изображались с крыльями наподобие птиц причудливых…»
Отвлекаясь от писания, Шубин мысленно рассуждал:
«Жаль, история не сохранила нам ни рисунков с тех скульптур, ни имен художников первобытных. А весьма было бы желательно. Об этом сожалел и Михайло Ломоносов…»
Поразмыслив, Шубин перевернул страницу в тетради, и снова заскрипело гусиное перо:
«Художества на церковной утвари и на стенах подсказывают нам, что двести и триста лет назад безымянные на Руси скульпторы отличались выдумкой неудержной. Люди и звери, птицы и растения — все вкупе переплеталось, и правды в тех причудах не было. Отсутствие оной не нарочито было, а по неумению изображать натуру, потому и состязались безымянные в нагромождении нелепостей, составляющих в коей-то мере прелесть неповторимую, подобно древним народным сказаниям, созданным во времена младенческие нашей культуры…»
Такие часы раздумья, беседы наедине с самим собой у Шубина были нередки. Потом развивались студенческие споры, способствовавшие усвоению прочитанных редких книг.
Перед тем как приступить к выполнению исторического барельефа, Федот Шубин долго изучал историю древней Руси. Товарищи всегда дивились способностям и настойчивости Федота и, чтобы чем-то оправдать свою отсталость, судачили:
— Что Шубин, ему легко и просто, у него за спиной Ломоносов!
Но вот уже больше года прошло с той поры, как Ломоносова не стало; Шубин оплакал кончину своего великого земляка, но не упал духом. Он часто вспоминал его добрые советы и мысленно сам себе отвечал на них: «Упрямку сохраню, тяжести все перенесу, а своего достигну».
Федор Гордеев в учебе и мастерстве далеко отстал от Шубина, дружба их давно уже была забыта. Вместе с Шубиным собираться ему за границу не пришлось. В тот год Академия художеств из всего выпуска смогла выделить учиться в Париж только троих: архитектора Ивана Иванова, живописца Петра Гринева и по классу скульптуры Федота Шубина.
Ни с кем так не хотелось Шубину поделиться своей радостью, как с Михайлой Васильевичем. И не было ни одного дня, чтобы он не вспоминал о встречах с Ломоносовым. Он из слова в слово помнил его добрые советы и ясно представлял себе образ великого ученого. Не раз он изображал Ломоносова кистью и резцом, стараясь запечатлеть облик любимого им человека, так много сделавшего для отечества. И горестно ему было вспоминать день похорон Михайлы Васильевича. Он провожал тогда Ломоносова в последний путь. Слезы родственников и друзей и тут же злорадство в разговорах недругов не выходили из памяти Шубина…
Это было весной 4 апреля 1765 года, на второй день пасхи. В общежитиях Академии художеств быстро распространился слух:
— Умер Ломоносов.
А императрица «отметила» день смерти Ломоносова дозволением открыть в Петербурге первый частный театр для простой публики и поставить первый спектакль…
Театр был в полном смысле «открытый», он был построен без крыши на пустыре за Малой Морской улицей. В постановке комедии Мольера участвовали доморощенные актеры из мастеровых разных цехов.
Федот Шубин и многие ученики Академии имели билеты на представление. Но никто из них не решился идти на увеселительное «позорище» в день смерти русского ученого. В Академии наук и в Академии художеств люди, знавшие и любившие Ломоносова, переживали тягостную утрату…
До отъезда в Париж после окончания Академии оставался почти год. Трое счастливчиков не тратили времени зря. Они с еще большим усердием занимались каждый своим искусством и настойчивей продолжали изучать языки — французский и итальянский.
Зимой из холмогорской Денисовки опять пришли неприятные вести. Братья Яков и Кузьма жаловались Федоту на свою жизнь: «…подушный оклад тяжел, пожню Микифоровку песком в весенний паводок замело, коровам корму на зиму недостает. Пашпортов на отход из деревни волость не дает, а его, Федота Иванова сына Шубного, в бегах объявили, разыскивают…»
Шубин, прочтя письмо, опечалился. Аттестат об окончании Академии с привилегией «быть с детьми и потомками в вечные роды совершенно свободными и вольными» еще не был получен.
Что делать? Он подал прошение в Академию, умолял заступиться за него и сообщить в архангельскую губернскую канцелярию, чтобы его не беспокоили и братьям в Денисовке в выдаче паспортов не отказывали. Началась бесконечная переписка. Академия написала в Архангельск. Губернская канцелярия — в Академию и в сенат, а сенат положил переписку в долгий ящик.
Дело о беглом крестьянине Шубном временно заглохло. А разыскиваемый Шубной Федот вскоре получил аттестат, дававший ему вольность и полную независимость от своих преследователей. И тогда Шубин вздохнул свободно. Теперь он уже не боялся за свою судьбу. Он словно бы вырос и почувствовал крылья за своими плечами.
И первой, кто его от души поздравил с вольностью и предстоящей поездкой за границу, была Вера Кокоринова, узнавшая об этом от брата.
По указу императрицы Екатерины Шубину был выдан и заграничный паспорт с большой государственной печатью.
С таким документом бывший беглый холмогорский косторез мог быть теперь вполне спокоен.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: