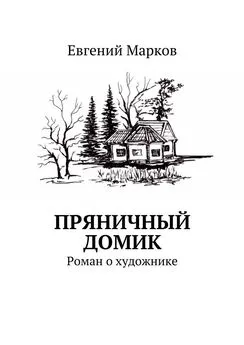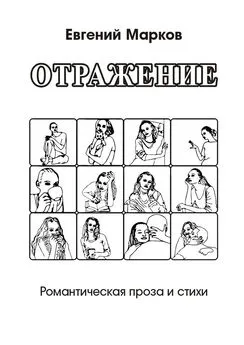Евгений Марков - Учебные годы старого барчука
- Название:Учебные годы старого барчука
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Стасюлевич
- Год:1901
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Евгений Марков - Учебные годы старого барчука краткое содержание
Воспоминания детства писателя девятнадцатого века Евгения Львовича Маркова примыкают к книгам о своём детстве Льва Толстого, Сергея Аксакова, Николая Гарина-Михайловского, Александры Бруштейн, Владимира Набокова.
Учебные годы старого барчука - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
— Гриша! Что это? Сейчас после причастия? А ты же говорил сейчас?
Я вспомнил свои кроткие мысли, свои добродетельные решения, в силу которых мне верилось всего только пятнадцать минут назад, и пристыжённо отвернулся от Алёши.
— Ну так что ж? Разве я начал? Когда он сам на меня напал! — проворчал я сердито.
— Да ведь ты говел, Гриша. Разве можно так? — с грустью сказал Алёша.
— Коли говел, так и разговелся теперь! — с хохотом перебил его Бардин, с грубой ласкою хватая меня за плечи и втаскивая в класс. — Видишь, какими пирогами его угостили… Ничего, волчок, не робей, всё-таки ты молодцом нынче воевал… Не поддался рябому бабаку! Отдул его своими боками хоть куда!
— Да за что это они? Господи, всю губу ему разнесло! И глаз совсем посинел… Как раз инспектор увидит, — страдающим голосом сказал Алёша.
— Ну а ты тут, богомолка, чего причитаешь? — крикнул на него презрительно Бардин. — Нюни ещё распусти! Велика важность, что ребята друг другу морды поковыряли. Не барышни! До свадьбы заживёт!
Алёша ничего не отвечал ему и стоял молча в дверях, смотря на меня с выражением досады и глубокой жалости, с задумчивой тоскою качая своей не по летам серьёзною лобатою головою.
Лунатик
Третьеклассник Чермак стал рядом со мною, и через это между нами установилась своего рода дружба. Конечно, четверокласснику, существу высшей породы, считавшемуся в числе «старших» классов, было бы позорно, по кодексу наших пансионских приличий, «в сурьёзе» дружить с малюком, которого ещё можно было сечь розгами, и потому моя дружба принимала скорее вид покровительства, по крайней мере снаружи. В глубине же души я ужасно жалел этого несчастного Чермаченку, как его обыкновенно звали у нас господствовавшие в пансионе хохлы. Чермаченкой звали солдаты и отца его, старого этапного командира, проживавшего в слободе Березняках, недалеко от нашего Крутогорска.
Вид у Чермаченки-сына был самый плачевный. Вся шея и нижняя часть лица испорчена золотухой, которой глубокие рубцы хотя и затянулись в течение времени, но вместе с тем настолько стянули мускулы, что рот бедного Чермаченки казался привязанным за один угол верёвочкой. Глаза у него были подслеповатые, оловянные, вялые донельзя, а на болезненно вздутой голове курчавились очень редкие, как песок сухие и постоянно высыпавшиеся волосёнки.
Чермаченко учился очень плохо; ни памяти, ни соображения у него не было, хотя он сидел над книжкою целые дни и вечера, в бесплодном усердии муслякая непонятный учебник. А между тем он был «казённокоштный», и отец его, суровый до жестокости и страшный на вид капитан, живший одним своим ничтожным жалованьем, не допускал мысли, чтобы сын его мог быть исключён из казённого пансиона за неуспешность.
Всякий раз, как начальство вызывало его в гимназию жаловаться на плохие успехи сына, он разражался против бедняги грубою бранью и угрозами, колотил его своими огромными кулачищами, не стесняясь присутствием товарищей и надзирателей, и раз даже собственноручно высек его розгами при всём пансионе за какую-то пустейшую выдумку, которою Чермаченко-младший неудачно пытался отговориться перед инспектором.
— Казённый хлеб ешь, так правду режь! — гремел грозным командирским голосом громадный черноволосый, черноусый и черномазый капитан. — Мягче овчинки тебя розгами выдублю! Пополам переломлю, а лениться не позволю… Издохнешь у меня под розгами, коли не исправишься!
Мы все молча трепетали от этого громового голоса и от этих страшных, огонь метавших глаз, заросших, будто колючим кустарником, чёрными взъерошенными бровями. А несчастный Чермаченко впадал чуть не в падучую болезнь от страха и слёз.
Я любил Чермаченку за удивительную для меня нежность его души. Он казался мне скорее слабою девочкой, чем гимназистом. Он всего боялся и плакал, как девочка, как девочка, был стыдлив и безобиден. Подраться с кем-нибудь, хотя бы защищая себя от самого наглого нападения, ему не приходило в голову. Он молча терпел всё и ото всех, и только со страдальческим выражением лица закрывал руками от ударов свою голову, которая была у него необыкновенно чувствительна. Его, впрочем, избегали бить даже самые завзятые забияки и обидчики, вроде Есаульченки, Ломаченки и их братии, потому что обидеть Чермаченку было всё равно, что обидеть младенца. Я часто отсылал ему свой стакан чаю, к немалой досаде тех товарищей четвероклассников, которые привыкли считать мою порцию своею законною собственностью.
Чермаченко совсем не умел отвечать уроков, особенно тех, где требовалось пространное изложение, а не отрывочный ответ. Но вместе с тем, по странному противоречию, он обладал замечательным даром рассказывать чувствительные истории; лучше всего и охотнее всего он рассказывал нам истории о привидениях, двойниках, мертвецах, колдунах и тому подобное. Он от всего сердца верил в этот фантастический мир и, кажется, жил в нём своею фантазиею гораздо больше, чем в мире действительности.
Зимними вечерами, а иногда и зимними ночами мы собирались вокруг Чермаченки и заставляли его повторять любимые наши повествования. Он часто бывал в больнице, чуть ли не чаще, чем в классе, и вот туда-то старались потихоньку от надзирателей забираться охотники до всяких ужасов и необыкновенностей, — посидеть и поваляться на пустых кроватях вокруг койки неистощимого на россказни Чермаченки.
Бесконечно тянувшийся Великий пост с его унылою погодою и унылым настроением духа особенно вызывал к этим беседам.
Был воскресный вечер, свободный от занятий, и мы сидели тесною кучкою на широких ступенях полутёмной лестницы, будто на скамьях амфитеатра. Усадив Чермаченку на последнем порожке у своих ног, мы жаждали насладиться чем-нибудь ещё не слышанным, хватающим за душу, поднимающим волосы на голове.
— Чермаченко, да ведь, говорят, у твоего отца в доме черти водятся, — спросил после нескольких минут Саквин. — Я вот слышал вчера от волонтёра Романченки, — он тоже из ваших Березняков, — будто там у вас бог знает что творится… Будто следствие даже губернатор производит.
— Как же! Ужас, что такое делается, даже рассказывать, и то страшно! — отвечал Чермаченко, потупляя глаза в землю и хватая себя за виски худыми, как у мертвеца, руками с искривлёнными пальцами.
— А что такое, Чермаченко? Расскажи, пожалуйста, — раздались кругом радостные голоса.
— Вот отлично-то! Перестаньте болтать, господа, не мешайте рассказывать! Убирайтесь отсюда вон, кто слушать не хочет, а сидишь, так сиди, не мешай! — крикнул сердито Ярунов, всегда присвоивавший себе полицейскую власть.
— Рассказывай, Чермаченко! Мы слушаем! — скомандовал Саквин.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: