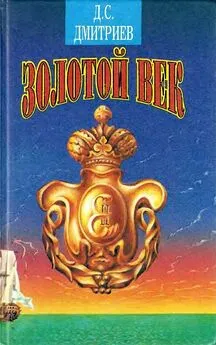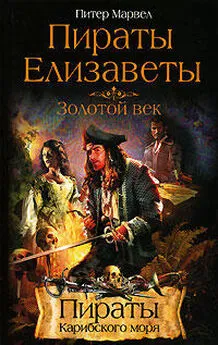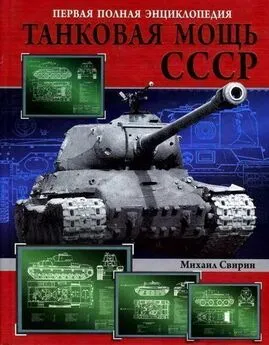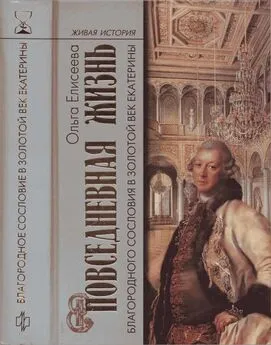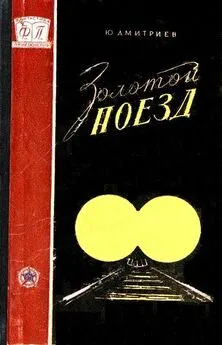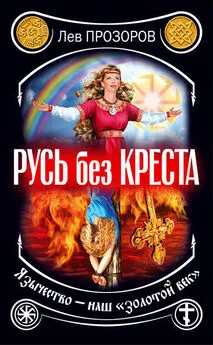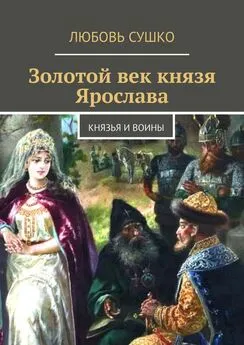Дмитрий Дмитриев - Золотой век
- Название:Золотой век
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Посылторг
- Год:1994
- ISBN:5-85464-015-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Дмитрий Дмитриев - Золотой век краткое содержание
Дмитрий Савватиевич Дмитриев (1848–1915), прозаик, драматург. Сын состоятельного купца. После разорения и смерти отца поступил писцом в библиотеку Московского университета.
С конца 80-х годов пишет в основном романы и повести, построенные на материале русской истории. Это прекрасные образцы исторической беллетристики, рисующие живые картины «из эпохи» Владимира Красное Солнышко, Ивана Грозного, Алексея Михайловича, Петра I, Павла I и др.
Романы Д. С. Дмитриева привлекают читателей обилием фактического материала, разнообразием бытовых сцен, легким слогом повествования.
Роман «Золотой век» (М., 1902) повествует об эпохе царствования Екатерины II.
Золотой век - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Не полагаясь ни на одного казака, оренбургский губернатор принужден был принять оборонительный образ действий, предоставить инициативу самозванцу и смотреть безучастно на расширение его власти в крае.
Такое положение было, конечно, оскорбительно для оренбургского губернатора, и Рейнсдорп, обходя несколько раз в день укрепления и ободряя гарнизон, достиг наконец того, что те самые командиры, которые отказывались идти на вылазку, «по довольном увещании одумались и к той атаке готовыми себя представили».
12-го октября майор Наумов с своим отрядом снова вышел из города и двинулся против мятежников. Пугачевцы окружили отряд со всех сторон, и Наумов, после четырехчасовой канонады, построил каре и, скрыв в нем орудия, отступил к городу.
Он потерял при этом 22 человека убитыми, 31 ранеными, 6 человек были захвачены в плен и 64 человека перешли на сторону самозванца.
Эта новая неудача заставила Рейнсдорпа отказаться от наступательных действий до прибытия подкреплений, и в течение нескольких последующих недель военные действия под Оренбургом не сопровождались никакими особенностями, которые могли бы изменить взаимное положение сторон.
Почти ежедневно небольшие кучки мятежников подходили к крепости, крича, чтобы гарнизон сдался своему истинному государю; по ним производилось несколько выстрелов и тем дело кончалось.
Пугачев не особенно церемонился со своими сообщниками и тех, которые сомневались в его личности, казнил без сожаления: так он не пощадил самого близкого к себе человека «полковника» Дмитрия Лысова, проговорившегося в пьяном виде о происхождении Пугачева. Отставной солдат Сорочинской крепости был повешен за то, что «в пьянстве говорил с бабой, которая пила вино за благополучный успех взятия Оренбурга, а солдат отвечал, что ныне-де время зимнее, как можно его взять».
Доносы и шпионство процветали в лагере самозванца, и счастлив был тот, на кого доносили в «военную коллегию», а не Пугачеву. Самозванец вешал без суда и разбора, а в «военной коллегии», судили словесным судом и только в случае явных улик вешали, а в случае недостатка в доказательствах обвиняемый освобождался от наказания, если призывал Бога в свидетели своей невиновности и произносил установленную для этой цели клятву.
Сам Пугачев никаких разбирательств не производил и был строг со своими сообщниками. Никто не смел давать ему какие-нибудь советы, а тем более выспрашивать о чем-нибудь, потому что Пугачев часто говорил, «что он не любит ни советников, ни указчиков». Просителей и доклады «военной коллегии» Пугачев принимал обыкновенно сидя в креслах, взятых в загородном доме оренбургского губернатора, и по бокам его стояло двое казаков, один с булавой, другой с топором — знаками власти. Все приходившие с просьбами принуждены были кланяться в землю, целовать руку и величать Пугачева — «надежа-государь», «ваше величество», а иногда и просто «батюшкой». Одеваясь в казацкое платье, Пугачев в торжественных случаях носил шаровары малинового бархата, бешмет голубого штофа, черную мерлушковую шапку с бархатным малиновым дном и белую рубашку с косым воротом. Вооружение его состояло из сабли и двух пистолетов. Ходил он не иначе, как поддерживаемый под обе руки жившими у него девками или татарками. При парадном шествии Пугачева яицкие казаки пели песню, в честь его сочиненную, а писарь исетского полка, Иван Васильев, должен был играть на скрипке.
«Во времена таких веселостей все напивались допьяна, а самозванец от излишнего питья воздерживался и употреблял редко. Для стола его кушанье было готовлено изобильно, потому что отовсюду привозили к нему разных съестных припасов изобильно». Каждый старшина партии обязан был представлять Пугачеву все лучшее из награбленного имущества, что и присылалось при особых записках или рапортах.
Кушанье самозванцу готовили русские девки, иногда и повар-казак.
Пугачев часто приглашал к своему столу и членов «военной коллегии».
Члены эти были не кто иные, как беглые казаки и бежавшие из Сибири преступники.
Так жил Пугачев под Оренбургом со своей многочисленной ватагой, угрожая городу.
LXIX
— Ты говоришь, что в моей казанской усадьбе ничего не уцелело? — дрожащим от волнения голосом спросил князь Платон Алексеевич только что вернувшегося из усадьбы своего старого и верного камердинера.
Григорий Наумович не долго пробыл в ограбленной и выжженной усадьбе; делать ему там было нечего и он поспешил в Москву. Во всей усадьбе и селе Егорьевском не осталось ни одного человека, кроме сельского священника, дом которого подвергся также грабежу, но сам священник во время погрома спрятался в церкви, чем и спасся, может быть, от смерти.
Пробыв немного в усадьбе, старик-камердинер поехал в Москву с печальным известием своему господину.
С ним также вернулась и подмога, состоящая из княжеских дворовых. Эти дворовые опоздали и приехали в казанскую усадьбу тогда, когда усадьба была уже выжжена и ограблена разбойниками-пугачевцами.
Погром усадьбы произвел на князя Полянского тяжелое впечатление; при известии о грабеже и пожаре в усадьбе князь изменился в лице. Волновался он не столько о погроме усадьбы, сколько об находившемся там в заключении офицере Серебрякове.
— Ничего не осталось, ваше сиятельство, все, что не ограбили злодеи, то выжгли, — печально ответил старик Григорий Наумович своему господину.
— А Серебряков! Что с ним?
— Не знаю, ваше сиятельство, горница, где он находился, оказалась пустой, замок у двери сшиблен. Верно, увели злодеи офицера.
— А может быть, убили?
— Смею доложить вашему сиятельству, если бы убили господина Серебрякова, то я увидел бы его тело.
— Хорошо хоть не убили его злодеи. Только на радость ли оставили ему жизнь?
— Уж какая тут радость, ваше сиятельство, поди разбойники увели с собой господина офицера, чтобы над ним измываться.
— Молчи, Григорий, молчи, я без содрогания вздумать не могу про Серебрякова. Всему его несчастию — я причина, все зло от меня; раскаиваюсь я в этом, да поздно, близок локоть, да не укусишь его. Кажется, я ничего не пожалел бы, если бы только Серебряков остался жив. Знаешь что, Григорий, я прощение стал бы у него просить, поклонился земно и сказал бы ему: «Прости меня, господин офицер, много перед тобой я виновен». Да, да, я родовитый князь, полный генерал, у простого офицера стал бы прощения просить, кланяться ему.
С тяжелым вздохом проговорив эти слова, князь Полянский в сильном волнении быстро заходил по своему кабинету.
— А про Егора Ястреба ты тоже ничего не знаешь? — после некоторой задумчивости спросил у своего камердинера князь Платон Алексеевич.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: