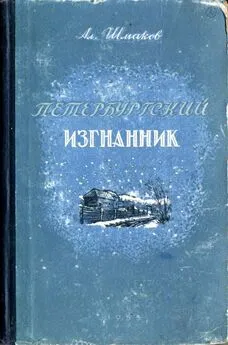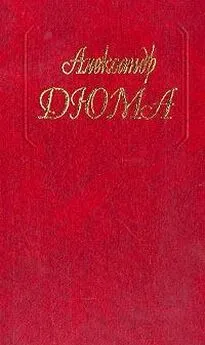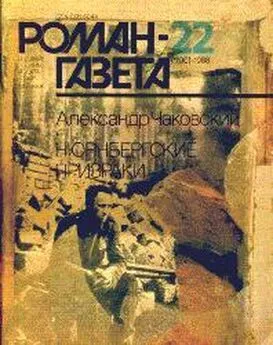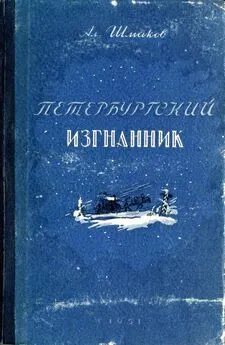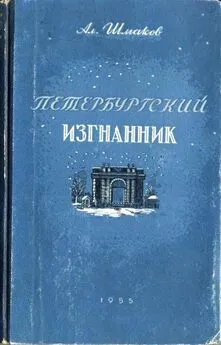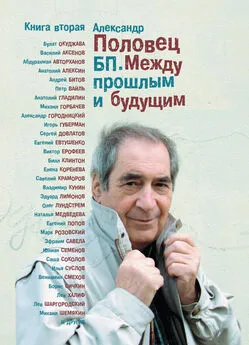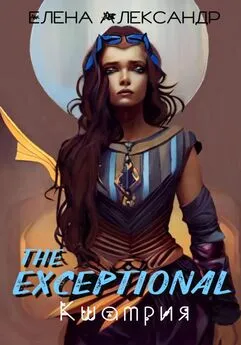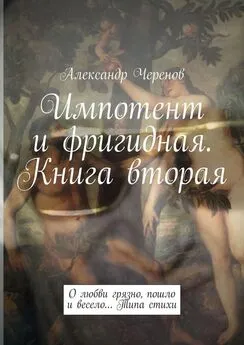Александр Шмаков - Петербургский изгнанник. Книга вторая
- Название:Петербургский изгнанник. Книга вторая
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Новосибирское книжное издательство
- Год:1953
- Город:Новосибирск
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Шмаков - Петербургский изгнанник. Книга вторая краткое содержание
Петербургский изгнанник. Книга вторая - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
На лице парня появилась напускная важность, и посторонний человек, глядя на Аверку, не преминул бы сказать об усердии, с каким тот вёл книгу «чёрных дел» своих поселян.
Аверка старательно обмакивал перо в оловянную чернильницу, очищал его в косматых своих волосах, не обращая никакого внимания на канцеляриста Хомутова, наблюдавшего за ним.
— Волосы-то что чернишь? — строго заметил канцелярист, довольный прилежностью Аверки.
— Ничего-о, в щёлоке отмоются…
— Дурило, перья-то не порти. Крыло-то гусиное теперь задорожало — по 25 копеек бабы дерут. В разор канцелярию вводишь…
— Ничего-о, Кирилла Егорыч.
— Ничего-о? — передразнил его Хомутов, — а ещё на занятия ходишь… Чему тебя, олуха, там учат…
— Разным наукам, — важно произнёс Аверка и поднял левую руку с вытянутым указательным пальцем. — В последний раз всё одно про князей да царей толковали, а как до Ермилы-то Тимофеевича добрались, не утерпел я, песню запел…
Кирилл Хомутов не удержался и прыснул от смеха.
— Во-от, чудило, насмешил меня…
— Песня-то моя по душе, видать, пришлась Александру Николаичу, ничего, не ругался…
На крыльце послышались шаги, и разговор сразу заглох. Аверка уткнулся в книгу, Кирилл Хомутов стал перебирать бумаги в папке, лежащей на столе.
В земскую канцелярию вошёл Радищев, поздоровался. На его приветствие ответил Хомутов. Аверка как ни в чём не бывало продолжал старательно выводить фамилии.
— Алексей Бушмагин, не бывший у святого причастия, — произносил он вслух то, что записывал, — оштрафован на един рубь… Микишка Башаргин на десять копеек… Ясачный Герасим Исаков на рубь…
— Поп жалуется: Христову веру, как басурмане, забывают, — пояснил Хомутов Радищеву, спросившему, что это за список оштрафованных составляет Аверкий. Ну вот, штрафнула их церковь-то, может божью веру в них подтянет…
Александр Николаевич подсел к Аверке и пробежал глазами длинный список лиц, не бывших у святого причастия и оштрафованных — старики — на рубль, молодые — от пяти до десяти копеек каждый.
— За что только не штрафуют…
— Без штрафу нельзя, Александр Николаич, извольничается народ совсем, порядков признавать не будет…
— Какой же в том непорядок, если человек не причастился?
— Как какой? От веры отбивается, особливо вновь крещёные тунгусы, якуты, буряты. Народ-то лесной да степной, его токмо богом и пристращать можно, а законы-то царские ему ничто…
Радищев слушал и удивлялся:
— Народ и так стенает от налогов и поборов…
— Намедни земский исправник прислал ещё одно распоряжение — воспретить рубить лиственный и сосновый лес…
— Почему же?
— Почему?! Избы строили из него, а теперь предписано строить из ольхи, ели да берёзы…
— Аль лесу мало в тайге?
— Лесу-то не мало, но раз закон такой вышел, исполнять его надо. Иначе греха не оберёшься, ежели заглянут сюды казённые чиновники да усмотрят избы из сосны срублены, говори, беда! Штрафовать, штрафовать будут…
Они ещё долго говорили о штрафах. Александр Николаевич с каждым днём жизни в Илимске, с каждым разговором с людьми вникал всё глубже и глубже в окружающую его обстановку. Ему открывалась то одна, то другая сторона отвратительной действительности самодержавия в отдалённом краю России, неизвестной ему раньше. Сибирские крестьяне, избежавшие пут крепостничества, не избежали гнёта, насилия, издевательств местной администрации и управителей края. Русскому народу одинаково тяжело жилось не только в центральной России, но и здесь в далёкой Сибири.
Радищев напомнил Хомутову, что тот обещал показать ему архивные бумаги.
— Слово мое крепко, посулил, значит покажу, — сказал канцелярист, — токмо бумаги те о воровских людишках, смутьянах, интересны ль будут?
— Какие бы ни были, но старые бумаги большую ценность представляют…
— Давние, дюже давние…, — и Хомутов достал из соснового ящика, со скрипучим запором, обещанные бумаги.
В папке, отдающей затхлой сыростью, хранились документы о восстании илимских крестьян 1696 года. Почти сто лет назад над ныне тихим острожным Илимском витал дух восстания, дух крестьянского мятежа!
Александр Николаевич погрузился в эти документы и забыл обо всём. Сколько таких документов, совсем неизвестных, хранят сосновые ящики воеводских изб и земских канцелярий в глухих и далёких уголках отечества как Илимск!
Воображение Радищева дополнило скупые, суховатые строки документов. Александру Николаевичу события представлялись так, как они могли происходить тогда здесь в Илимске.
В том доме, который он сейчас занимал с семьёй, жил воевода Богдан Челищев, человек зверь-зверем, лютый к народу, смиренный перед богом.
Третий год подряд был недород хлеба в илимском уезде. Где хлеба взять, хотя бы малых ребятишек досыта накормить? Негде! Те малые запасы, что хранились у каждого, давно поприели, а купить было не на что. А в воеводских амбарах — полны закрома зерна, мыши зажиревшие не едят его, коты обленившиеся мышей не ловят. Мог бы Челищев ссудить хлеба миру, поддержать его в тяжёлую годину. Но не до посадских и служивых людей было воеводе. Ещё больше притеснял он народ, заставлял спину гнуть на воеводской работе, а тех, кто насмеливался слово в свою защиту сказать, — всенародно наказывал — бил батогами, стращал, что сгноит в колодках.
Стали люди жаловаться на притеснения Богдана Челищева, писать грамоту на воеводу, что, мол, невыносимо жить им под воеводской властью. Замены требовали.
«Будучи-де в Илимске воевода стольник Богдан Челищев, — читал Радищев, — им и иным градским жителям чинил сборы и налоги и тесноты и взятки брал и их разорил без остатку и чтоб ево за такие от него, Богдана, к ним многие разорения из Илимска переменить, а на ево место послать иного воеводу, а про его Богданова обиды и взятки и разорения сыскать всякие сыски».
Грамота посадских и служилых людей, посланная великому государю со своими надёжными людьми, отправленных миром, осталась без ответа. Наушники воеводы, узнав о посланной грамоте, рассказали Челищеву. С того дня воевода стал ещё круче нравом, ещё больше чинил обид народу, разорял илимцев поборами да налогами.
Росло недовольство против Богдана Челищева, поднималась месть в душе народа. Отважный Семён Бадалин — дед Аверки, со своей ватагой напал на воеводу, когда тот плыл в Киренск по Лене на богомолье, избил его, обрезал воеводину бороду, волосы на голове — осрамил перед всем народом.
Вскипел в ярости воевода. За Бадалиным отправил погоню, сыскал его, заковал в колодки, страшно пытал, о сообщниках допытывался, зачинщиков искал. Крепок оказался Семён Бадалин, не выдал товарищей, всё на себя взял, тяжёлые пытки перенёс, а вскоре и совсем бежал из Илимской тюрьмы, куда был привезён и посажен воеводскими прислужниками.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: