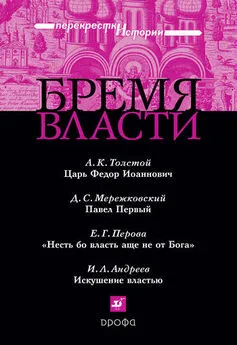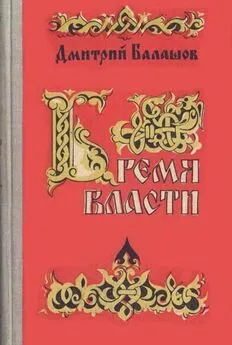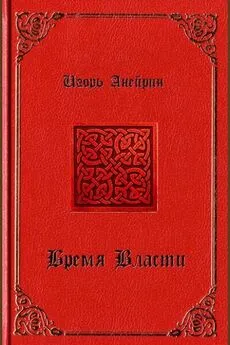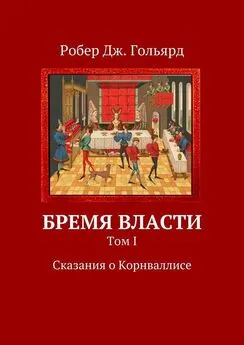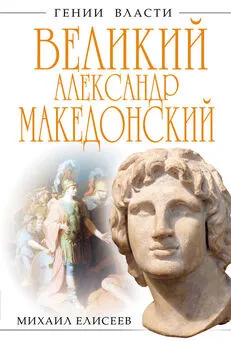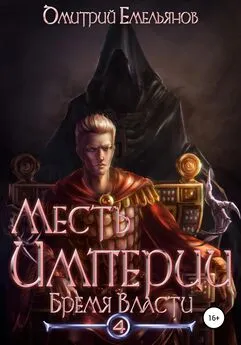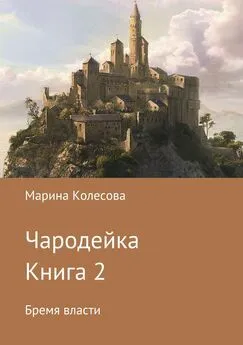Дмитрий Мережковский - Бремя власти: Перекрестки истории
- Название:Бремя власти: Перекрестки истории
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Дрофа»d9689c58-c7e2-102c-81aa-4a0e69e2345a
- Год:2008
- Город:Москва
- ISBN:978-5-358-02632-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Дмитрий Мережковский - Бремя власти: Перекрестки истории краткое содержание
Тема власти – одна из самых животрепещущих и неисчерпаемых в истории России. Слепая любовь к царю-батюшке, обожествление правителя и в то же время непрерывные народные бунты, заговоры, самозванщина – это постоянное соединение несоединимого, волнующее литераторов, историков.
В книге «Бремя власти» представлены два драматических периода русской истории: начало Смутного времени (правление Федора Ивановича, его смерть и воцарение Бориса Годунова) и период правления Павла I, его убийство и воцарение сына – Александра I.
Авторы исторических эссе «Несть бо власть аще не от Бога» и «Искушение властью» отвечают на важные вопросы: что такое бремя власти? как оно давит на человека? как честно исполнять долг перед народом, получив власть в свои руки?
Для широкого круга читателей.
В книгу вошли произведения:
А. К. Толстой. «Царь Федор Иоаннович» : трагедия.
Д. С. Мережковский. «Павел Первый» : пьеса.
Е. Г. Перова. «Несть бо власть аще не от Бога» : очерк.
И. Л. Андреев. «Искушение властью» : очерк.
Бремя власти: Перекрестки истории - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Федор (1557–1598), последний из Рюриковичей, последний из рода Ивана Калиты, младший сын Ивана Грозного (1530–1584) от первого брака, в возрасте 27 лет вступил на престол, который тридцать с лишним лет занимал его отец (а если считать и великое княжение, то все 50). Федор царствовал на протяжении 14 лет и умер, не оставив потомства. Далее – Смутное время, самозванцы, нашествие поляков и многолетняя борьба за престол, завершившаяся в 1613 году избранием на царство Михаила Романова.
Павел I (1754–1801) – единственный сын Екатерины Великой и Петра III, хотя слухи о его не совсем законном происхождении распускала сама державная мать, ускорившая уход в мир иной своего супруга. Павел взошел на престол в 42 года, три десятка лет проведя в положении наследного принца – «российского Гамлета», и царствовал всего четыре с небольшим года, пока жизнь его не прервалась от рук пьяных заговорщиков с молчаливого попустительства его сына, будущего императора Александра I. Павел оставил большое потомство, в результате чего обеспечил на сто с лишним лет законную преемственность престола, разрушенного в 1917 году.
В характерах обоих царей было нечто общее: детская незрелость характера, а также своеобразное, чисто русское юродство – слабость души и воли, непозволительная для монарха, спасаясь от которой Федор уходил в молитву и постничество, Павел – в самодурство и дурачество.
Царствование Федора в общем оценивается однозначно: мир, покой и благоденствие, наставшие после кровавого кошмара Ивана Грозного, достигнуты были трудами молитвенника Федора и его правителя Бориса. Трагическая фигура Бориса Годунова, столь мощно выписанная еще А. С. Пушкиным, на протяжении 400 лет привлекала внимание историков и литераторов: «гений и злодейство» – одна из вечных тем. А в том, что Годунов был государственным гением, не сомневается никто – ни его защитники, ни его злопыхатели: «… и если, будучи рабом, он дерзко совершил этот захват высочайшей власти, сильно согрешив, все же даже и его враг не назовет его безумным, потому что глупым недоступно таким образом на такую высоту подняться и совместить и то, и другое», – пишет дьяк Иван Тимофеев [58] [48;222].
Борис Годунов (1552–1605) венчался на царство в 1598 году, а при жизни Федора долгие годы был его правой рукой и нес на своих плечах бремя управления державой.
Короткое правление Павла, так же как и полтора десятка лет, проведенных Годуновым у власти (тайно и явно), обросло впоследствии множеством слухов, домыслов и преувеличений, цели которых были различны: в случае Годунова – обвинением в убийстве ребенка-наследника доказать неправедность царствования, в случае Павла – оправдать убийство (и отцеубийство!) самодержца его безумием.
Свидетельства современников всегда пристрастны, зависят от личных склонностей, политических убеждений, особенностей восприятия, от того, был ли сей свидетель непосредственным участником либо очевидцем события или же узнал о нем по слухам. А слухи, как известно, имеют свойство расти и множиться неимоверно!
Вот характерный пример: один из современников сообщает, что в то время, когда народ под стенами Новодевичьего монастыря бил челом Борису на царство, «…некий отрок… посажен был против келий царицы и живущих там монахинь на зубцах стены… Крик этого отрока согласован был с мольбою просящих и покрывал все голоса народа». Был ли сей отрок «подучен» Борисом, для нас сейчас не важно, интересно другое: некий иностранец пишет в своих записках о двух мальчиках, в другой редакции упоминается уже целая толпа юношей, которая далее превращается слухами в огромную процессию из нескольких тысяч (!) отроков, что и записывает добросовестно шведский дипломат Петр Петрей [59] [41;203–204].
Точно так же один офицер превращается слухами в целый полк, прямо с учений посланный Павлом – «шагом марш!» – в Сибирь.
Официальная публицистика и историография также немало поспособствовали делу внедрения разного рода исторических мифов в сознание народа.
В 1860 году, в одном из первых исторических изданий вольной лондонской типографии, Александр Герцен писал, что история императоров превращена в канцелярскую тайну, сведена на дифирамб побед и риторику подобострастия: «С одной стороны, правительство запрещает печатать о таких происшествиях, о которых все знают, о которых все говорят – в гостиных и передних, во дворце и на рынке. С другой – оно открыто лжет в официальных рассказах и потом заставляет повторять свою ложь в учебниках. Сначала ей никто не верит, но, боясь преследований, никто в этом не признается; потом события забываются, современники умирают, и остается какое-то смутное предание о том, что правительство исказило факт. Отсюда общая уверенность, что правительство всегда говорит неправду, и сомнения в возможности знать истину» [33;11–12].
Мы не первые беремся сопоставить времена царя Федора и императора Павла: любое царствование и правление невольно сравнивается с предыдущими, и весьма показательно, что именно выбирается для сравнения.
Если Н. М. Карамзин [60]считал, что эпоха Павла I – сплошной тяжелый кошмар, напоминающий порой «зады Грозного», то Я. И. Санглен, [61]руководивший при Александре I Тайной канцелярией, полагал, что Павел не был оценен по достоинству: «Он нам дан был или слишком рано, или слишком поздно. Если бы он наследовал престол после Ивана Грозного, мы благословляли бы его царствование…» [57;182–183].
Но в истории не бывает ни «слишком рано», ни «слишком поздно».
Все совершается в свое время.
Из загадочной гибели невинного маленького мальчика, как из малого источника, выросла великая русская Смута, погубившая тысячи жизней; подлое убийство руками подданных злополучного монарха тяжким камнем греха легло на души его потомков. В начале века XX история вернулась на круги своя – зверское убийство царских детей породило другую русскую Смуту, исчислявшую свои жертвы миллионами.
ФЕДОР И БОРИС
Моей виной случилось все. А я Хотел добра…
А. К. Толстой. Царь Федор ИоанновичПРАВО ДРАМАТУРГА
Деятельность царя Федора и Бориса Годунова оценивалась историками, опирающимися на широкий круг источников, созданных во времена Смуты, и на воспоминания иностранцев, побывавших в России и часто преследовавших своими сочинениями собственные политические и личные цели.
После смерти бездетного царя Федора государство оказалось на грани краха: царская династия, ведущая свое начало от Ивана Калиты, потомка легендарного Рюрика, прервалась. Во время 15-летних баталий между претендентами на трон все средства были хороши – политическая борьба одинакова во все времена! Публицисты не жалели чернил, в зависимости от собственных пристрастий обливая грязью того или иного претендента на трон. Сторонники Годунова изо всех сил преувеличивали его роль в правлении государством, подчеркивая удаленность царя Федора от мирских дел. Противники «выскочки» Бориса обвиняли его во всех мыслимых смертных грехах, главным из которых было убийство царевича Дмитрия!
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: