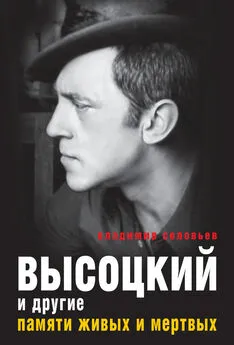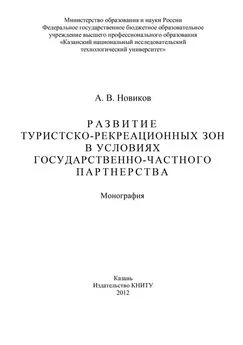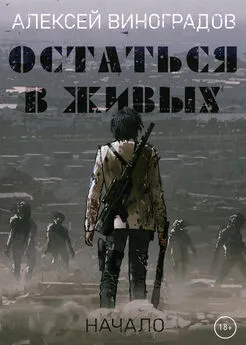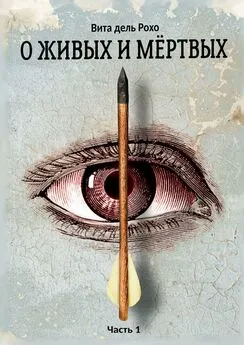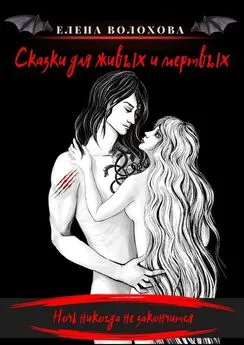Алексей Новиков - О душах живых и мертвых
- Название:О душах живых и мертвых
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент ФТМ77489576-0258-102e-b479-a360f6b39df7
- Год:1973
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Алексей Новиков - О душах живых и мертвых краткое содержание
Роман А. Н. Новикова «О душах живых и мертвых» (1957) посвящен истории трагической дуэли и гибели М. Ю. Лермонтова – создателя вольнолюбивой поэзии, стихотворения на смерть Пушкина, факелом скорби и гнева пылающего в веках, автора несравненных поэтических поэм «Демон» и «Мцыри» и великолепной прозы «Героя нашего времени». Одновременно с вольнолюбивой поэзией Лермонтова звучит написанная кровью сердца горькая поэма Гоголя, обличающая мертвые души николаевской России. Присоединяет к Лермонтову и Гоголю негромкий, но чистый голос народный поэт-самородок Алексей Кольцов. Страстными статьями уже выделяется в передовых рядах литературы сороковых годов Виссарион Белинский. С молодым напором и энергией примыкает к нему Герцен.
Широкое и красочное полотно общественно-исторической действительности бурных сороковых годов прошлого столетия, насыщенных острой, непримиримой идеологической борьбой, дано в романе с художественной силой и убедительностью.
О душах живых и мертвых - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Раскаявшийся критик и в самом деле продолжал: «Основная идея его романа – необходимость любви к отечеству и уважения ко всему отечественному».
– Истинно так! – в умилении подтвердил Михаил Николаевич и готов был протянуть руку примирения остепенившемуся мальчишке.
Но через несколько строк его чуть было не хватил удар. В статье, посвященной Загоскину, критик вдруг заговорил о мыслях мертвых и романах дидактических.
– Мертвые мысли! – взревел Михаил Николаевич. Лицо его стало багровым. – Да что же смотрят власти в Петербурге?! Объявил расходившийся разбойник мертвыми мысли, священные сердцу каждого верноподданного, – и ничто ему! И до сих пор он не в кандалах, не на каторге!
Хитер оказался будущий каторжник: поговорив о мертвечине, он опустил забрало и, прячась от возмездия, снова заявил, что сказанное не следует относить к нему, Загоскину.
Да как же все это понять?
Великий писатель изнемогал от недоумения, а распоясавшийся хитрец, вооружившись смертоносной булавой, вдруг нанес новый удар. Он уверял читателей, что г. Загоскин исчерпал всю глубину своей задушевной идеи и что в романах его наблюдается истощение дотла… А потом возьми да и назови вежливенько самые недостатки писателя… достоинствами, чтобы снова разнести эти достоинства в пух и прах.
Он играл с маститым романистом, как кошка с мышью. Он усыпил цензуру, чтобы прорваться к читателю со словом правды. Итак, этот рыцарь без чести и племени уже пустил ядовитую стрелу в стан москвитян и, что было еще опаснее, посягал на священные идеи, выставленные в этом стане, как боевая хоругвь.
В самом деле! Михаил Николаевич нападал в своем новом романе на крикунов, превозносящих мнимую, по убеждению писателя, культуру Запада. Ведь в московских особняках, при участии того же Михаила Николаевича, было давно доказано, что эта культура догнивает. Виссарион Белинский объявил, что автор впадает в крайность.
У Загоскина в романе была помещена замечательная сцена: русский лакей, попав с барином в Лондон, как истинно русский богатырь, разит в харчевне англичан «под самое дыхание», «по становой жиле» и прочее и прочее. Воинствующий автор в каждом своем произведении непременно помещает пламенную оду самобытному русскому кулаку. А критикан – не мог уж и имени его произнести Михаил Николаевич, – издеваясь и над автором и над витязем, совершающим подвиги в лондонской харчевне, объявил его выражения «чересчур народными», а всю сцену «несколько грязноватой».
Не знал Михаил Николаевич, что еще крепче бы выразился Виссарион Белинский, если бы не стоял рядом с ним бдительный Андрей Александрович Краевский с редакторским карандашом в руке; не знал и того, что сам Виссарион Григорьевич должен был унимать клокотавшую в нем ярость, чтобы только обойти цензуру и послать наконец смертельную стрелу в нарождающийся лагерь москвитян. Стрела, пущенная гневной рукой, нашла цель. Читатели, давно привыкшие к междустрочным объяснениям, смеялись, а писатель, когда уразумел, наконец, не без помощи друзей, куда метил Белинский, еще раз взревел:
– Караул! Буду срочной эстафетой жаловаться графу Бенкендорфу!
Михаил Николаевич, изласканный на московских дружеских обедах и возвеличенный петербургским «Маяком», искренне верил, что его вдохновенному и всемогущему слову осмелился противостоять только один-единственный смутьян, укрывшийся, как в засаде, в критико-библиографическом отделе «Отечественных записок».
А какую бы эстафету пришлось слать графу Бенкендорфу, если бы услышал Михаил Николаевич такую речь:
– Наш царь поднимает хоругвь самодержавия и поддерживает ее чем попало – виселицами и молебнами, голубыми мундирами жандармов, суздальскими иконами и романами Загоскина.
Встретив удивленный взгляд слушателей, которым такой перечень казался несколько парадоксальным, оратор продолжал:
– Недаром помянул я Загоскина. Словесностью, купленною по дешевке, тоже не приходится брезговать, когда нужно укрепить основание трона. Но есть и будет на Руси другая литература!
Так говорил Александр Герцен. Он снова был в Москве в огромном отчем доме.
Позади остались бесконечные дороги изгнания.
Конечно, власти не смешивали Александра Герцена с колодниками из беглых мужиков. Избирая путь к исправлению сына богатейшего московского барина, его иначе познакомили с российскими просторами.
Герцен мог ехать в ссылку в собственном экипаже. Мчались по дорогам экстра-почты, ползли помещичьи рыдваны, брели мужицкие ходоки, гремели кандалы на этапах да провожали колодников черные избы, крытые соломой и занесенные сугробами.
На все это еще раз нагляделся молодой московский изгнанник, когда власти разрешили ему переехать из Вятки во Владимир. Теперь у Александра Ивановича было меньше юношеского задора, но много горького опыта, приобретенного в скитаниях и на перепутьях подневольных лет.
Во Владимире пришло к нему счастье. Сюда умчал он из Москвы свою ненаглядную Наташу, похитив ее из затхлого дома старухи-благодетельницы. Во Владимире родился у счастливых супругов первенец – сын Александр.
Молодой отец, едва объявился в жизни Сашка, обратился к нему с нетерпеливым напутствием:
– Иди в жизнь! Иди на службу человечеству! Я обрек тебя на трудный путь. Может быть, погибнешь, но пронесешь чистую душу. Благословляю тебя! Иди!..
Напутствие было, пожалуй, несколько восторженным, но хмель любви и молодость не способствуют трезвости мысли. А Сашка, словно предчувствуя трудный путь, тоненько, едва слышно заплакал…
Но вот и Сашка, и Наташа, и сам Герцен опять в Москве.
Немногие из оставшихся друзей слушают пылкую речь вернувшегося изгнанника:
– Кончились тюрьмой годы ученья, кончились ссылкой годы науки, пришла пора науки в высшем смысле и действия практического!
Он поднимает бокал и, храня в памяти юношескую клятву, которую он дал когда-то вместе с Николаем Огаревым на Воробьевых горах, служить людям по примеру Рылеева и Пестеля, обращается к отсутствующему другу:
– За солнце Воробьевых гор!
Он и Наталье Александровне часто рассказывает о том навеки памятном вечере, когда стояли они, обнявшись с Огаревым, давая нерушимую, пусть еще детскую клятву, а заходящее солнце обдавало их мягкой лаской закатных лучей. Если бы вернуться хоть на минуту в тот невозвратимый день!..
Барственная Москва не слышит речей Александра Герцена. Именитые люди ведать не ведали, что, готовясь к действию практическому, привез с собой из ссылки незаконнорожденный сын почтеннейшего Ивана Алексеевича Яковлева вороха бумаг: здесь и повести, и статьи, и дневники, и драматические этюды. Везде, словно вехами, отмечен пройденный путь – и колебания и ошибки – и все ярче и ярче разгорается костер ненависти к насилию и произволу.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: